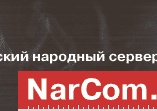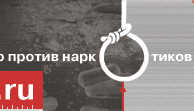|
| |
Отрывки из готовящейся к изданию книги петербурженки Ольги Жук. Книга
правдивая и жесткая. Настоятельно рекомендуется всяческим специалистам по
молодежи.
Строгая девушка или путешествие из Петербурга в Берлин
(фрагменты из рукописи)
О. Жук
…..А пока, совсем еще не подозревая о грядущей, наступающий на пятки,
катастрофе, мы упоенные друг другом, гуляли по заснеженному и не очень
гостеприимному Питеру. Каждая улица, почти каждый дом напоминали мне о том ином
событии, том или ином человеке. Все было дорого и близко. Это был мой любимый
город, это был «город, знакомый до слез».
Вот здесь, в доме постройки Леонтия Бенуа, Кировский 26-28, жил Леша, учился
у нас на актерском, в большой коммуналке у него была небольшая комнатка, где мы,
студенты и экс-студенты Театрального института и несколько профессиональных
наркотов, устроили притон, тогда все мы были без ума от белого или, как его еще
называли, джефа, или по-другому, марцифали.
Никита Михайловский
В нескольких домах от Леши, жил Никита Михайловский, в школьные годы –
Сергеев, мама у него умерла от какой-то странной болезни, типа водянки,
сравнительно молодой, отчим – Сергеев, в те годы еще второй режиссер, к тому
времени уже расстался с его мамой и женился на другой – художнице по костюмам со
студии Марине Каверзиной. Никита остался сиротой, один в трехкомнатной квартире.
Учился он на актерском у Р. Агамирзяна, но был уже известным актером. Начал он
школьником с эпизодической роли в фильме «Объяснению в любви» И. Авербаха, затем
снялся в главной роли у Аян Шахмалиевой «Дети как дети», собственно Шахмалиева
по настоящему и открыла юное дарование. По-моему десятиклассником сыграл у И.
Фрэза «Вам и не снилось». У него мы тоже развлекались: несколько человек с курса
А. Кацмана и Л. Додина, и несколько с курса Р. Агамирзяна, я с театроведческого,
и пара-тройка профи. Тогда мы торчали на фене, самопальном, конечно. По-моему
это были 82/83 гг. Через некоторое время фен сменился на джеф, но тогда мы
переехали к Леше, кажется, сокурснику Никиты, точно не помню, почему переехали,
тоже не помню. Никита вскоре, в 91 г. умер. Тоже, как и его мама, от какой-то
странной болезни, болезни крови. Гуляя из Репино в Комарово, мы побывали с Майк
на Комаровском кладбище, где похоронена Анна Ахматова и другие знаменитости,
среди них профессора моего института, и мой школьный и институтский приятель
Никита Михайловский.
Уже в конце девяностых. Когда смертоносное зелье – героин в западном
порошковом виде, а не в домашнем варианте, проникнет во все большие и малые
города бывшего СССР, сын Виктора, в то время уже известного
режиссера-постановщика, умрет от передозировки. В тот же год, на рубеже
девяностых и нового тысячелетия, умрут еще три ленфильмовских «ребенка»: один –
ребенок актерской четы, и еще один актерский сын, уйдут, как и другие дети,
других неизвестных мне родителей, отправятся на тот свет от передозировки
героином. Но это еще впереди.
А пока мы гуляли с Майк по заснеженному Питеру, Репино и Комарово, а я
вспоминала других жертв страшного зелья.
Сережа Гулин
Первой жертвой был еще в середине семидесятых мой товарищ по художественной
школе – Сережа Гулин. Подробности его смерти нам были неизвестны, известно было
одно – в этом участвовали наркотики, какие, точно не знаю, но не героин, тогда
мы даже не знали, как делать самопальный, а западного порошка тем паче не было.
Когда мы познакомились с Сережей, нам было по четырнадцать лет, и он уже торчал
на всем. В пятнадцать он умер. Его сотоварищ по общеобразовательной, весьма
привилегированной, школе, так же как и по художественной, тайно в него
влюбленный, восхищенный всем в Сереже, а Сережей можно, даже нужно было
восхищаться – самостоятельный во всем, симпатичный, обаятельный молодой человек,
душа компании, любимчик девочек, любовник взрослых женщин и т.п., Миша К., дал
себе клятву никогда, НИКОГДА не торчать. Через несколько лет я его встретила в
торчащей компании, он уже вовсю торчал.
Сережа Авдеев
Следующей жертвой был Сережа, тоже Сережа, Сережа Авдеев, как его ласково
называли, Авдюша. Талантливый художник, ученик СХШ, завсегдатай «Сфинкса». Его
мама преподавала в СХШ, только по этому за пропуски занятий его не выгоняли. Но
он ушел, ушел сам, ушел, когда выгнали его однокашника, тоже торчка и тоже
Сережу, Сережу Сухарева. Выгнали, как показалась Авдюше, несправедливо, ведь
делал, а точнее не делал положенного, он не больше и не меньше, чем Авдюша,
только не было у него мамы в СХШ. Сережа Авдеев рано потерял человеческий облик,
наркотики были для него всем: возлюбленной, творчеством, экстазом. Эта была его
ЖИЗНЬ. Ради них Сережа был способен на все, однажды он взял у приятеля десять
рублей под предлогом помочь ему достать наркоту, ровно столько, сколько стоил
тогда стакан сена или кокнара – молотых головок мака, и выпрыгнул в окно. Убежал
и купил себе наркоты. При этом при всем, он был очень талантливым и симпатичным
человеком. Хрупкий, почти прозрачный с большими голубым, всегда стеклянными от
наркоты глазами. Он был образованным и внимательным собеседником и изящным
кавалером. Женщины его не интересовали, но он был хорошо воспитан и ухаживал за
ними. Как он умер, я тоже не знаю, знаю только, что от наркоты.
Всех жертв я сейчас перечислять не буду, ограничусь этими первыми, ибо
постепенно, почти все наши герои превратятся в покойников – жертв наркотиков,
СПИДа, неосторожного гомосексуального поведения и т. п. Кто умер от
передозировки, кто от ломок, кто на кумаре замерз на лестнице, кто,
переломавшись, улетел в окно, кто….
Ира
А пока мы с Майк гуляли по Питеру, Репино, Комарово. В Комарове, в
Академическом городке, в роскошном довоенном финском доме, проживала Ира, дочка
замечательного искусствоведа из Эрмитажа и внучка академика, по-моему,
астролога, кому, когда-то и принадлежала дача. После войны широким жестом Сталин
подарил, точнее, дал возможность академикам за бесценок купить в Комарове дома.
Среди них был и Ирин дедушка. Она жила постоянно на даче, ее два близнеца уже
выросли, она первая из моих знакомых, рано, лет в восемнадцать родила. На время
перестала тусоваться в «Сфинксе» и других модных местах, растила детей. К
настоящему времени, она свободная молодая женщина безвылазно: с множеством, в
прошлом бездомных, косых, слепых и хромых собак, безглазых и безлапых кошек, и
их детей, проживала на даче. Раньше на участке было два дома, кроме большого
финского, маленькая дачная пристройка. Но в этой маленькой пристройке, вместе с
самим домиком, варя домашний героин, сгорела одна наша общая знакомая. Тем не
менее, друзья любили Ирин дом, конечно, и саму Иру – дерзкую, экстравагантную
художницу и поэтессу.
Мы с Майк приехали на один день. Ира блестяще говорила по-английски, и я
думала, что Майк будет интересно, поговорить, наконец, с кем-то, кроме меня.
Но Ире затруднять себя было лень, как и другой Ире – , у которой Майк
развлекала себя тем, что пыталась понять все эти глаголы с корнем «пизда»:
спиздили, отпиздили и т. д., она показала нам свои картинки, прочла по-русски
несколько своих стихов.
Я играла со зверьми, Короче, мы прекрасно провели время и без светской
трепотни на английском. Думаю, что Майк скучно не было.
Новый год
Новый год мы отпраздновали по-семейному: мама, Майк и я. Днем я съездила,
туда обратно на такси, на Кузнечный рынок, самый богатый питерский рынок, купила
всяких роскошеств: дыню, рэган (базиликум), домашнего овечьего сыра, парной
телятины, красной рыбы, икры. Стол ломился от деликатесов. Сохранилась,
сделанная Майк фотография, праздничного стола, стол был красиво убран: старинная
вышитая скатерть, посреди дыня, вокруг красиво расставленная антикварная утварь,
столовое старинное серебро 84 пробы и современные кичевые немецкие салфетки
(Майк любила кич).
После часу пошли в дом, напротив, к маминой приятельнице Наташе, она
справляла со своей мамой, и двумя подругами. Майк все время крутила сигаретки из
голландского табака «Drum», которые почему-то принимались Наташей за косяки. Она
была недалека от истины, Майк иногда курила траву, и я, после пятнадцати лет
каннабисного воздержания, помогала ей в этом, но не у Наташи же дома. Тогда в
России курили самопальные сигаретки только редкие иностранцы-неформалы, для
Наташи и ее компании, конечно, это было внове, за границей они не бывали. Живых
иностранцев, тем более небогатых и альтернативных или автономных они вообще
никогда не видели, возможно, что и не слышали о таких. Бедная, бедная Майк, что
только о нас с тобой не думали!
/…./
Мое прошлое
Что же я делала в эти годы?
Я росла в столичном городе Ленинграде, в интеллигентной творческой семье.
Проживала на улице, на Петроградской стороне, потому что, я и есть та самая
Строгая девушка. Я училась, училась в двух школах – в специализированной
английской школе, с углубленным изучением иностранного языка, и художественной.
Кроме этого, начиная, лет эдак с 11, стала интересоваться западной современной
культурой, интерес к которой не поощрялся в СССР. Культура «sex, drugs,
rock`roll» тянула меня к себе с неимоверной силой. Наверное, уже тогда
предвидела, что будет у меня любимая девушка – шестидесятница с Запада, из этой
самой культуры «sex, drugs, rock`roll».
Первый мой выход в андеграундную тусовку был в 1971 году, когда мне было 11
лет. Мой приятель, еще со времен детского сада ВТО, Саша Раппопорт – внук
кинохудожника А. Векслера и племянник оператора Ю. Векслера, инициировал меня в
питерский андеграунд. У Саши был брюки клеш, самопальные, но очень красивые. И
главное, модные. Кроме штанов, у Саши была старшая сестра – Алина. Алина
общалось с питерским андеграундным бомондом, собственно говоря, была одной из
них – посвященных в культурный высший слой андеграундного высшего света. Она и
ее друзья, среди которых я хорошо запомнила Кирилла Козырева, нам казались тогда
недосягаемыми как боги с Олимпа, они ходили в кафе на углу ул. Некрасова и
Литейного пр. – «Abbey Road», слушали западную рок музыку и употребляли
запрещенные наркотики. Однажды Саша пригласил меня пойти «Abbey road». вместе с
ним. Так, инициировавшись, без всяких жрецов иерофантов и иерофантесс, два
молодых новообращенных миста, два прозелита – Саша и я, почувствовали себя более
уверено, и начали ходить не только в «Abbey road», но и в «Сайгон», регулярно.
Через пару лет открылся бар «Ольстер» у станции метро «Маяковская», днем туда
можно было пройти бесплатно, и просидеть за одной чашечкой кофе целый день.
Большинство дневных посетителей «Ольстера» были прогуливавшие занятия студенты
первых курсов питерских вузов. Были и несколько школьников: Миша Бригевич,
Вероника Т., моя подруга по художественной школе, еще кто-то и я. Вечером вход в
«Ольстер» был платным, да и публика в целом была другой. Кроме «Ольстера» я
ходила в легендарный «Сайгон», на углу Невского и Литейного проспектов, и в
«Рим» у станции метро «Петроградская», совсем рядом с домом. Затем приятельница
по прошлой англ. школе, которая теперь училась на Васильевском острове в 24-ой
школе, рассказала мне о «Сфинксе.
Подписанты
Итак, после 8-го класса из двух классов нашей 55-ой школы сделали один,
расформировали нас за плохое поведение: диссиденство и сионизм. Большинство
народу оказалось в Новой деревне в 52-ой школе. Остальные при помощи родителей и
Районо, разошлись по разным другим специализированным или простым средним
школам. Руководство школы и Районо преследовали цель, разъединив друзей,
приостановить антисоветскую заразу. А в результате антикоммунистическая зараза
разнеслась по всему городу. Я же оказалось в 80-ой школе на Петроградской,
близко к дому, где встретила множество друзей своего детства, знакомых мне еще с
детского сада или пионерского лагеря, так как их родители работали на к/с
«Ленфильм», а детсады и пионерлагерь были «творческими», для детей
преимущественного ленфильмовских и других креативных родителей.
Наша 55-ая школа, с точки зрения властей, оказалась рассадником всего самого
опасного для СССР, а мы – дети носителями этой опасности. В 14 лет, в 8-ом
классе, я, понимая далеко не все, даже очень мало, из того, что делала, точнее
за что боролась. Я понимала лишь, что делаю нечто ЗАПРЕТНОЕ, и оказываю, таким
образом, гражданское неповиновение, а я распространяла петицию в защиту писателя
А. И. Солженицына и академика А. Д. Сахарова.
Пытаясь восстановить те события, проверяю источники: 9 октября 1975 года
Сахаров получил Нобелевскую премию за мир за «бесстрашную поддержку
фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со
злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».
Но мы подписали петицию приблизительно за полгода до этого события. С
предложением присудить Нобелевскую премию мира академику Сахарову, автору
доктрины о постепенном сближении с Западом, сопровождающемся демократизацией
Советского Союза, как альтернативе конфронтации и увеличивающейся опасности
термоядерной войны, выступил сам «государственный изменник», в феврале 1974 года
насильственно выдворенный из СССР, А. И. Солженицын. Именно этой
солжениценовской инициативе и была посвящена, если я правильно помню, петиция,
которую мы подписали.
Таким образом, уже в 14 лет и мои школьные друзья были подписантами. Копию
петицию мне дала некая Галя-граммофон, гермафродитка – очень красивая девушка,
но с усами и щетиной, знакомая мне по «Риму». Мама Наташи , приятельницы
приведшей меня в «Сфинкс» сыграла неоднозначную роль в этой истории, с одной
стороны, она в разговорах с моей мамой по телефону обвиняла меня во всех самых
тяжких грехах и своего рода совращении своей дочери и угрожала при этом, что
отправит меня в школу для трудновоспитуемых, с другой, возможно она и отец
Наташи, спасли нас от расправы, спасая нас, они, конечно же, спасали свою дочь,
которая была одной из «подписанток». Мама Наташи – бывший прокурор, на настоящий
момент работала в Обкоме партии, папа, правда, живущий отдельно, но в этой
ситуации – на предмет борьбы с нами и защиты нас – детей-диссидентов
объединившейся с мамой, был действующим прокурором. Кто-то донес на нас куда
следует, еще предупредил об эскалации опасности дирекцию школы. Основная
опасность, по мнению Наташиных родителей, исходила от меня, так как именно я
распространяла среди школьников эту петицию.
Это был самый серьезный, но не единственный случай, нашего коллективного
неповиновения и сопротивления режиму. Вследствие этой истории меня чуть-чуть не
отправили в школу для трудновоспитуемых подростков, что-то типа детской
воспитательной колонии, где жили и учились плохие дети: воры, проститутки,
убийцы и т. д. Моя мама меня спасла от этой школы, точнее спасли ее
высокопоставленные знакомые, с которыми в виде ко-консультантов она сотрудничала
на разного рода ментовских и гэбешных фильмах. Может быть, помогли не только
знакомства, но и мое отличие от основного контингента такого рода школ, в этих
школах прибывали дети из плохих семей, а у меня семья была хорошая, и мама имела
безупречную репутацию.
Вторая история была с преподавателем географии Григорием Михайловичем
Шляпентохом. Взрослые дети Шляпентоха отправились на свою историческую Родину
Израиль, на постоянное место жительства. В таких случаях родители должны были
давать разрешение на отъезд. Шляпентох – служащий идеологического фронта –
ШКОЛЫ, такое разрешение своим детям дал. Злостное поведение Шляпентоха, хотя он
и не был членом партии, обсуждали на партсобрании школы, пропесочили его в
Районо и т. д. А приговорили – в административном порядке – уволиться из школы.
Мы – школьники, человек 10 из нашего 8 «б» класса и еще пара-тройка
старшеклассников открыто выступили в защиту Шляпентоха. Нам, конечно же, как
водится, быстро заткнули рот, объяснив нашу несознательность и релятивизм. В
итоге Шляпентоха из школы уволили, а в конце года расформировали и наш класс.
Оказавшись в 80-ой школе, я ничего не потеряла, наоборот. Сохранив друзей из
старой школы, приобрела массу новых интересных знакомств, и даже новых друзей, и
очень хороших учителей, ничем не хуже, а даже лучше, чем в предыдущей школе. В
этой элитарной школе было еще больше детей именитых родителей: народных и
заслуженных артистов и деятелей искусств и несколько детей ректоров и
проректоров питерских высших школ. Компания подобралась подходящая, старые
детские друзья и новые тинэйджеровские друзья. В этой школе на четыре года
младше учился и Никита Сергеев, впоследствии Михайловский.
Художественная школа
Что касается школы художественной, то оттуда меня выгнали на год раньше, чем
из общеобразовательной. На практике, а каждый год мы проходили практику, что-то
типа, поездок на этюды, я послала одну учительницу на хуй. Наверняка, она этого
заслужила, но идти туда не пожелала, а вместо этого пошла к директору школы и
нажаловалась на меня. Директор школы – С. А. Ануфриева, была мамина хорошая
знакомая, некогда они учились вместе в Академии Художеств, и она позвонила маме:
«Мол, де надо что-то делать!?». Знакомство не помогло, меня из школы пришлось
забрать. Светлана Андреевна Ануфриева, бывшая директриса школы, а в годы моей
учебы в Театральном институте искусствовед на свободных хлебах, замечательный
искусствовед (это я понимала еще и в школе, где она читала нам историю искусств)
оказалась вдобавок еще и интересным, и не менее замечательным человеком, и стала
моей хорошей приятельницей. Ее мастерская находилась на Моховой, на той же
улице, что и мой институт. Жила она тоже неподолеку от меня с мамой, на углу
Пушкарской и Ленина, в доме ВТО, но я посещала ее исключительно в мастерской на
Моховой, нам там было удобнее. Но это позже, почти через десять лет, а пока,
меня определили в другую художественную школу. Она была ничем не хуже, чем
предыдущая, а может и лучше, так как там была специализация, и я оказалась на
тео-кино отделении. Там же я повстречала множество интересных ребят, которые
стали моими друзьями, там же я познакомилась с наркотиками и наркотами. О Сереже
Гулине, на моей юношеской памяти – первой жертве наркотиков, я писала. Кроме
этого Сережи, который учился со мной в одной группе, были еще два Сережи: Сережа
Аничков и Сережа Сухарев (последнего я упоминала в связи с Сережей Авдеевым).
Они были старше нас года на два, что в то время было много, т. е. им было по лет
16-17. Они не были матрикулированными учениками школы, учились оба в
реставрационном училище (Сухарева к тому времени уже выгнали из СХШ), а у нас
числились в вольнослушателях.
Сережа Аничков
Сережа Аничков был молодой человек очень хорошего дворянского рода. Его
дедушка бывший граф Аничков в советское время стал крупным фармакологом и
академиком. Его уже не было в живых, и Сережа проживал со своей мамой – дочерью
бывшего графа и академика, ее мужем и сводной сестрой. Мама рано родила Сережу,
дала ему свою фамилию, и, выйдя замуж, практически предоставила мальчика самому
себе. К тому времени, как мы познакомились, Сережа имел собственную комнату в
квартире на Гражданке, где проживали мама, отчим и сестра, и делал, что хотел. А
хотел он стать художником, живописцем, реставрационное училище было лишь
ступенью в его творческой карьере, он желал поступить в Академию художеств, в
крайнем случае, в Мухинское училище, но также он хотел слушать рок музыку и
употреблять наркотики. К 16 годам он уже попробовал все наркотики. Сначала оба
Сережи приносили в школу только анашу и траву. Затем выяснилось, что они давно и
вовсю колются опиатами.
Саша
В 55-ой школе со мной учился один молодой человек – Саша. Он был на три
класса старше. И когда я была в 8-ом, он уже окончил школу. Саша не поступил в
Первый Медицинский институт и устроился, чтобы на следующий год было легче
поступать, там же в институте, лаборантом на какую-то кафедру. Шел 1974 год.
Именно в этом году власти ужесточают УК, 224 ст., регулирующую преступления,
связанные с наркотиками: увеличивают срок за хищение наркотических средств и
вводят специальную часть за незаконное приобретение и хранение наркотиков, что
фактически предусматривает наказание и за употребление. Но пока суть да дело,
наркотики продолжали похищать, распространять и приобретать, так же легко, как и
прежде. Только через год-два станет значительно труднее похищать наркотические
препараты в лечебных учреждениях т. к. администрация, наконец, начнет серьезно
контролировать этот процесс. Итак, Саша похитил множество лекарств из
лаборатории или кафедры, точно не знаю, среди них были и сильные наркотические
средства: омнапон, морфин, промидол.
Саша воспитывался в очень скромной мелкоинтеллигентной и мелкобуржуазной
семье с немецким мебельным гарнитуром, за сервантом – неотъемлемой частью этого
гарнитура, он прятал наркотики. В институте за свою работу он получал скромное
жалованье, совсем небольшие деньги, чуть больше, чем студенческая стипендия, а
он хотел разбогатеть. Причем разбогатеть любым путем, готов он был на все. В
данном случае подвернулись наркотики. Он обратился ко мне, а я имела репутацию
крутой, не помогу ли я ему сбыть украденные лекарственные препараты. Я забрала у
него пакетик и унесла в художественную школу. Наряду с омнапоном, морфином и
промедолом, там были седуктиные препараты, типа седуксена, пипольфена. Первые мы
поделили между двумя Сережами – Аничковым и Гулиным, последние забрал Сережа
Гулин, он торчал на всем. Мне заплатили за ампулы, я даже, что-то на этом
заработала, но основные деньги отдала Саше.
Увидев успех предприятия, и почувствовав вкус денег, Саша принес следующую
партию наркотических препаратов, на сей раз строго по нашему списку, только
опиаты: омнапон, морфин, промидол. Так продолжалось недолго, всего несколько
раз, пока у Сереж не закончились деньги. За последнюю партию мы денег Саше уже
не отдали.
Несколько раз за это время я была свидетелем, как Сережи: Сережа Аничков и
Сережа Сухарев, шмыгались ширевом, но сама пробовать боялась. Я уже начинала
курить анашу, но колоться… «Нет. Никогда!» – думала я в ту пору. Шприц, кровь,
это меня останавливало. Не сами опиаты, конечно, я тогда не знала и даже не
подозревала насколько они привлекательны и опасны одновременно. Сладкий кайф.
Если бы мне на тот момент предложили нюхнуть, или выпить, или курнуть опиатов, я
бы, безусловно, согласилась. Но колоться. «Нет. Никогда!». Прошел год-полтора, и
я укололась, до этого, уже познав сладкий кайф опиатов: несколько раз съев
кодеин с ноксероном, последний смягчал и пролонгировал кодеиновую таску.
Что же ты делала в эти годы, Майк? Ты уже успела вернуться в Голландию из
Германии, пожить спокойненько в Амстердаме, и уехать в Австралию. Твоя жизнь и
твоя культура «sex, drugs, rock`roll», отличалась от моей. Конечно, ты слушала
рок музыку и курила марихуану, но никогда рок музыка не была чем-то очень важным
и главным в твоей жизни. Как впрочем, и в моей. Марихуана, наверное, тоже. Они
были лишь некой формой протеста в твоей обывательском и в моей советском
окружении. Что же касается секса….
Ты хотела знать о моей жизни, я тебе рассказывала разные истории, в том числе
и эти. Были истории, были увлечения, были отношения, были наркотики, была учеба,
много, что было до встречи с тобой…
/…/
Наступали рождественские праздники. Все друзья собирались, как это принято, в
Западной Европе, к мамам…Майк, как и планировала, уехала в Розендааль. Андреас в
Эберсвальде, кто-то как всегда проживал в его крошечной квартире. И я решила
перебраться к приятелю Йенсу. Но через несколько дней и он уехал к родителям в
Баварию. Я же осталась жить у него.
Питерские реалии:
Саша
Строгая девушка уже готова была почувствовать себя бедной девушкой и,
смирившись с собственным бессилием, вопреки планам, тоже уехать к своей маме в
Петербург на Петроградскую сторону, но вовремя спохватилась, вспомнив, что она
сильная Строгая девушка.
В то же время, Питер манил Строгую девушку. Но Питер уже был не Питер без
Майк. Ведь в прошлом году они были там вместе. А пока вспоминались разные
питерские истории, те которые уже были рассказаны Майк, и те, которые еще не
были, но будут ей рассказаны.
Покаталась я по Берлину, пообщалась с питерскими друзьями. Вместе мы
вспомнили Питер, родных людей, прошлую жизнь. Поехала я и во Фридрихсхайн. Там
на Кройцегерштрассе проживал Леша Леннон, и рядом, за углом, на соседней – Саша.
Саша Мышкин учился со мной в 80-ой школе, на два класса младше. Он был
приличным и очень привлекательным мальчиком из хорошей семьи. Так мы называли
интеллигентные советские семьи, причем и я, и Саша буквально переводили это
выражение на английский язык, на котором оно абсолютно ничего не означало. Саша
тоже, как я, говорил только по-английски. Он жил с американкой Джулией, которая,
чтобы понимать Сашу и его друзей стала самостоятельно изучать русский. Начала
она с чтения книги «Архипелаг ГУЛАГ». К тому времени, как я неожиданно встретила
в Берлине Сашу, Джулия уже неплохо говорила на русском языке, но, все же Саша
говорил по-английски значительно лучше, и мы, все вместе общались на нейтральном
– английском.
Сашу я встретила при следующих обстоятельствах: в октябре 93 года в одном из
залов Культура Браурай (бывшей пивоварни, а теперь Дома культуры) была назначена
премьера нашего с Наташей и сестрой Урсулы – Катрин, фильма «Кайф». Катрин в то
время играла в левую и жила во Фридрихсхайне, в сквоте на Ригарштрассе. Еще до
премьеры она рассказывала мне о том, что встретила в одном из сквотов очень
милого молодого человека, биолога и джанки из Питера. Мне в голову не могло
прийти, что это мой хороший знакомец Саша.
Вкратце история Саши такова. Окончив школу и поступив в Университет на
биологический факультет, Саша заторчал. Какое-то время он еще был ничего, дружил
с Бедной девушкой Юлей и другими интеллигентными бедными девушками. А потом,
просто от рук отбился.
Проторчал он так немного немало и весьма неслабо несколько лет и был посажен
в тюрьму за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели
сбыта. Закончив Универ, вскоре опять залетел, где-то на границе между Украиной и
Россией, с мешком кокнара. Но это были уже перестроечные времена, и его
отпустили под подписку. А он, недолго думая, свалил в ГДР. Вскоре страна
объединилась, и Саша, таким образом, оказался на Западе.
Итак, после премьеры фильма «Кайф» ко мне подходит молодой человек и
по-русски говорит: «Привет!». Каково было мое изумление, когда я признала в нем
Сашу, он оказался тем самым биологом из Питера, о котором рассказывала мне
Катрин. Бросив всех почитательниц и почитателей, подруг и друзей, журналисток и
журналистов, чуть не забыв о любимой Майк, я обратила все свое внимание на Сашу.
Леша Леннон
С Лешей Ленноном меня уже познакомил Саша. Но оказалось, что мы имеем в
Питере множество общих друзей.
Один из них – Петя – был инициирован в наркотики мною, в свою очередь, он был
первым, кто вмазал Лешу. Таким образом, я для Леши была «крестной бабушкой».
Леша заторчал на полную катушку. Он все делал по-русски на полную катушку – и
пил, и торчал, и любил, и детей рожал. Вскоре он сел в тюрьму, причем лет эдак
на 6. За несколько дней до освобождения Лешу, который работал извозчиком и ездил
с лошадкой и повозкой туда обратно, с зоны на волю, авторитетные воры попросили
привезти с воли анаши. И он, имевший свободный выезд с зоны, на своей
запряженной в телегу лошадке, ввез в зону анашу. Тут его и обшмонали, нашли
анашу, должны были добавить срок. К счастью, миновало… Но Леше катастрофически
не везло, единственным шансом опять не сесть был отъезд на Запад, где не сажают
за ерунду, что он и сделал. В Берлине он познакомился с Карлой, и она, сначала
из гуманитарных соображений, а потом, полюбив Лешу, решила выйти за него замуж.
Когда их выгнали из сквота на Майникештрассе, они поселились в другом сквоте на
Кройцегерштрассе, в полуподвальной холодной квартире. Было тяжело, в особенности
зимой, но Леша не брезговал никакой домашней работой: колол дрова, топил печку,
убирал помещение, готовил пищу. Карла же торговала гашишем. Вместе – он и она
воспитывали ее – от первого брака малолетнего ребенка. По-моему, у Карлы было
еще двое детей, но они жили с папой. Стараниями барышничающей Карлы денег на
героин хватало. По утрам они пили кодеин, потом Карла приносила герыч и они уже
нормально раскумаривались.
Чем жил и как жил Саша, я затрудняюсь сказать. Он работал, или это была
стипендия, не знаю, он говорил, что это 600 марок в каком-то научном институте,
не больше. В отличие от Леши, он не был человеком открытым, и скрывал свои
доходы и приходы. Но у него тоже зачастую бывал героин, в остальное время он пил
кодеин и запивал снотворным – рогипнолом.
/…/
Возвращение в Берлин. Русское Рождество. Маша и Андрей
Между тем отъезд из Бельгии был не за горами. Вернулись мы с Майк в Берлин,
как и приехали, каждый своим ходом, я чуть раньше, она на несколько дней
попозже. Вернувшись, Майк тут же меня нашла. Было это 6 января. День
православного Рождества. Никто из моих друзей, а тем более Майкиных друзей, не
знал, что мы помирились и опять вместе. Поэтому мы решили провести первые дни
вдвоем, Майк вообще могла не объявляться и не звонить своим подружкам, это было
в ее стиле. Страх быть видимыми, опять вместе, после таких сцен, в первую
очередь, касался Барбары. Но вдвоем, только вдвоем, было не просто, ведь надо
было что-то решать. И пока мы решили не выяснять отношений и не строить планов
на будущее, а пойти в церковь. Я думала, рождественская служба начнется по
берлинскому времени, а она началась, вероятно, по московскому, не помню точно.
Во всяком случае, когда мы приехали в Русскую Православную Церковь, в подчинении
Московской Патриархии, недалеко от Фербеллинер Платц, там уже никого не было. Мы
гуляли вокруг церкви и неожиданно увидели еще одну пару: молодого человека и
девушку. Девушка была приблизительно моего возраста, и ее лицо мне показалось
знакомым. Но сначала я не придала этой знакомости никакого серьезного значения.
Мы представились друг другу и разговорились. Молодого человека звали Андрей,
девушку Машей. Андрей блестяще владел немецким. Маша тогда знала лишь несколько
слов и выражений. Поэтому Майк и Андрей говорили в основном на немецком, Андрей
переводил для Маши и меня. Милая пара пригласила нас в гости, выпить, закусить.
Мы радостно согласились, страх быть вдвоем, а значит вольно или невольно
выяснять отношения был силен. Мы сели в машину Андрея и через двадцать минут
оказались в Восточном Берлине, в районе Лихтенберг.
Мы сели за стол, по русскому (советскому) обычаю, на кухне. Познакомились
ближе, что-то рассказали о себе. Выяснилось, что Андрей – врач-хирург, Маша –
актриса. «ОК. Актриса так актриса, училась у А. Эфроса в Москве, хотя сама из
Питера» – подумала я. Но ее лицо по-прежнему казалось мне знакомым, причем лично
знакомым. Но я по-прежнему не могла вспомнить, откуда же я ее знаю…
Было уютно, хорошо, весело. Общались на всех языках одновременно. Заговорили
о наркотиках, не помню почему. И тут Маша задергалась, занервничала, увидев
неловкость, объяснила свое состояние: «У меня друг, сокурсник погиб от
наркотиков. Очень талантливый актер – Володя Осипчук».
Возвращение в прошлое
Володя Осипчук
Гром среди ясного неба. Володя Осипчук – Машин друг. Но и мой друг тоже.
Более того, были мы с ним почти родственники, кажется, это называется «кумовья»,
вместе крестили Таню и Таниных детей.
И тут я все вспомнила. Маша училась на том же курсе, что и Володя, это был
второй выпуск А. Кацмана и Л. Додина. Первые годы в институте мы учились
параллельно. Училась она, по-моему, года два, а может и три, потом ей пришлось
перевестись в Москву в ГИТИС. Я вспомнила, все вспомнила, и теперь мне стало
понятно, почему она заканчивала ни у А. Кацмана и Л. Додина, а у А. Эфроса.
Курс А. Кацмана и Л. Додина был талантливый и дружный. Вместе учились. Вместе
репетировали. Вместе играли. Почти жили в Институте. На нем образовалось даже
две супружеские пары. Педагоги и режиссеры Кацман и Додин воспитывали в
студентах дух студийности – «коллектив – это все», «коллектив – всегда прав» и
т. п., на мой взгляд, уже давно устаревший. Ведь на дворе были не шестидесятые,
а рубеж семидесятых-восьмидесятых. Тогда, в шестидесятые во времена становления
«Современника» это было, наверное, актуально и нужно, но не сейчас. Тогда была
оттепель и шестидесятники, дети XX съезда партии, смотрели на мир с надеждой и
верой в «социализм с человеческим лицом». Поэтому они и стремились к демократии
и справедливости, и, конечно, к демократии в понимании большинства. Причем все
эти студийные принципы, в самой, что ни на есть классической театральной студии
«Современник», и то работали только первые несколько лет. Но мы, дети
брежневского застоя, не во что не верящие, разочарованные, дочери и сыновья
безвременья и затишья? Престарелый шестидесятник Кацман и молодой шестидесятник
Додин, который вскоре превратиться в сытого сановного вельможу, проповедовали
нонсенс и просто, не ведая того, развращали юные души, чему история с Машей –
прямое свидетельство. Правда, затишье затишьем, но конец семидесятых, начало
восьмидесятых принесли Питеру несколько политических процессов и сфабрикованных
уголовных дел, коснувшихся в какой-то степени и меня. Курса Кацмана и Додина они
не касалось никак. Итак, студенты, обученные своими руководителями, пытались
решать все курсовые проблемы, даже личные, всем миром: судить, рядить, выносить
решения, даже приговоры, а главного соизволения милостиво ожидать от одного из
руководителей курса – Додина. Маша, на мой взгляд, из этой странной и архаичной,
условно говоря «современниковской» системы, выламывалась. Вот курс «правым
большинством» и присудил ее, несмотря на актерский талант, или вопреки нему, к
изгнанию. Это лишь то, что я тогда вспомнила, и еще ощутила какой-то гнусный
привкус от этой истории, рассказанной мне дружившим с Машей, Володей Осипчуком.
Сейчас Маша лишь сказала, что до ГИТИСа училась в ЛГИТМиКе. Т. е. пришлось
сказать, чтобы объяснить свое знакомство с Володей – жертвой наркотиков.
Обсуждать тему своего изгнания, изгнания несправедливого, скверного, она не
хотела, да и я тоже. И вся эта история промчалась в моем сознании, да и только.
Меня больше интересовал Володя.
Володя. Володя Осипчук. Еще одна жертва наркотиков. Его смерть опосредовано,
не напрямую связана с ними. Она не была результатом передозировки, или
отравления, или ломок. Володя просто вышел в окно, как и Саша Башлачев, который
поздней весной1988 года вылетел из окна.
Сережа
Шел 80-ый или 81 год. В основном здании на Моховой, что напротив Учебного
театра, и напротив здания, где располагался театроведческий факультет, где
училась Строгая девушка и художественно-постановочный факультет, где училась
Бедная девушка, была студия звукозаписи. Руководила студией Юлия Лазаревна, а
«Mädchen für alles», или «мальчиком на побегушках» был мой приятель Сережа. Мы с
Сережей были знакомы с наших 17 лет, закончив 232-ую английскую школу, Сережа,
как он тогда мыслил и выражался, искал «интересных людей», среди них как уже не
помню, нашел и меня.
Сережа был в то время начинающим художником, он нигде специально не учился
этому мастерству, а талант получил по наследству от отца, которого не помнил или
даже не видел, графика, иллюстратора книг. Позже Сережа увлекся фотографией. Но
ни на том, ни на другом поприще большой известности не получил, а имел, как
говорится «широкую известность в узких кругах». Тусовался тогда Сережа с разными
художниками-неформалами: Тимуром Новиковым, Ваней Сотниковым, Кириллом Миллером
и др., но ни к какой художественной платформе не примыкал, был сам по себе. Не
знаю, как он попал на работу в Театральный институт, места лаборантов и
секретарей были «блатовыми», на них работали чьи-то дети и свояки, и особо
приближенные студенты-заочники. Сережа никакого блата не имел, отца своего
художника, жившего в Москве, толком не знал, никакой протекции тот ему не
составлял, да и не мог бы составить в другом городе.
Сережа своей внешностью и одеждой – андрогинный юноша, с длинными кудрявыми,
волосами и узкими бедрами, в узких брючках в облипочку и широком свитере –
выделялся среди большинства студентов и молодых служащих нашего института. Он
сразу же привлекал к себе внимание. Привлек он и внимание Володи Осипчука.
Студия звукозаписи находилась за углом от актерской мастерской Кацмана и Додина.
Володя ходил вокруг Сережи кругами, но не решался обратится. Он, как
впоследствии нам рассказывал, был уверен, что Сережа сможет ему помочь решить
серьезную проблему. И оказался прав. Проблема заключалась в следующем: Володя
мечтал, до одури, до боли попробовать наркотики. Он был одержим ими: они ему
снились, они его преследовали. Но знакомых среди наркотов не имел. И что и как
делать не знал. Он даже раздобыл несколько ампул морфина, как впоследствии
выяснилось, украл у своего брата-врача, но не знал как уколоться. И вот однажды,
преодолев стеснение, он прямо спросил Сережу, не вмажет ли тот его. До этого не
раз и не два мы курили с Сережей на лестице joints, косяки по-нашему, и Володя
вероятно это видел, и все про нас понял. Но косяки, это – лишь косяки, а шприц –
это все-таки шприц, а гашиш не морфин. Но желание было столь сильно, что Володя
спросил, буквально навязал себя к нам в компанию, в которую вступил с серьезным
«членским взносом», со своим морфином. Сережа разыскал меня, рассказал мне о
предложении Володи. На следующий день мы уже все вместе укололись. Как было
принято в те годы одним шприцом. В этот раз наркотической невинности лишала не
я, Володю инициировал Сережа.
В лице Володи я в первый раз встретила человека, который точно знал, что он
хочет сильных наркотиков, его никто не соблазнял, впрочем, в соблазне ли дело?
На него даже никто не мог оказать влияния. Володя был абсолютно чист, до нас с
Сережей живых наркотов никогда в глаза не видел. Он созрел сам, как созревает
девица на выданье и от избытка своей плоти отдается первому встречному
поперечному. Володя особым творческим чутьем почувствовал своего «первого
встречного». Волей судеб этим человеком стал Сережа, я просто была рядом, и в
дальнейшем Володе и нескольким его друзьям-сокурсникам очень в этом смысле
помогала. Морфин кончился в тот же день, как Володя донес его до института, его
едва хватило на нас троих. А дальше, дальше где-то надо было покупать, точнее
доставать наркотики. А в те годы достать наркотики, не имея никаких связей, было
еще сложнее, чем даже заморские фрукты: ананасы, да бананы. Здесь тоже нужны
были свои «нужники» или хорошие товарищи, с «нужниками» этими знакомые. И я этом
смысле Володе очень помогла. Сначала сама посредничала по-дружески, без
ощутимого навара, за вмазку, с той, с другой стороны. Потом, когда появились
деньги, и исчезло свободное время, познакомила Володю со своей ближайшей
школьной, детской подругой Таней и профи барыгой, профи наркотом, самым старшим
из нас, любящим искусство и артистов, Сашей, по кличке
Черное: кокнар, ханка, героин
Что же представлял из себя наркотический рынок начала восьмидесятых годов?
Кроме азербайджанской компании/группировки на Кузнечном и Некрасовском рынке,
которую с натяжкой, но можно сравнить со здешними берлинскими уличными дилерами
арабами, были уже не барыги в чистом виде, а наркоты понемногу перепродающие
кайф или изготовляющие самопальный героин, чтобы не заработать, нет, а лишь
обеспечить себе ежедневную пайку.
Что мы употребляли в те годы? Кодеин, популярный рыночный кайф середины
семидесятых, к рубежу восьмидесятых сменился на рынке наркотиков кокнаром или,
как его называли менты и врачи, маковой соломкой, и только летом можно было
купить ханку – опиум-сырец. Многие еще доедали кокнар, кто ложками, кто
стаканами, закусывая снотворным, если было чем, конечно. Другие, уже начинали
готовить ангидрированный опиум, домашний героин. Делали это поначалу еще,
надевая противогаз, чтобы не отравиться парами уксусного ангидрида, часами, а то
и целую ночь выдерживали ацетилировавшийся опиум в водяной бане. Вскоре всю эту
процедуру сократили до 45 минут-1часа, а последнюю, самую длительную реакцию
ацетилирования, до 10 минут. Противогаз выкинули за ненадобностью, так как никто
так и не отравился парами уксусного ангидрида (даже не понятно, почему химики,
среди них и моя бабушка переливали его в специальном шкафу!), в крайнем случае,
лишь слезились глаза. Качество раствора от сокращения срока изготовления тоже не
ухудшилось.
Летом покупали ханку у барыг или сами ездили собирать загород мак. Ханку
ацетилировали, получался отменный braun sugar, значительно лучше уличного
героина в Берлине. Мы все так мечтали попробовать запретный настоящий героин.
Когда в конце восьмидесятых, начале девяностых мы попали на Запад, то были очень
разочарованы качеством героина. Первым был Володя Осипчук бывший с Малым театром
на гастролях в Великобритании, США, Германии, везде одна и та же история.
Следующей была я: Германия, США. Великобритания, Нидерланды и т. д., тот же
опыт. А потом, лет через пять-шесть, когда синтетический – «западный» из
Афганистана, Таджикистана, Чечни, белый порошок, т. е. более очищенный, чем
braun sugar, героин, попал в Питер, и вытеснил с рынка домашний, были
разочарованы и мои друзья – старые наркоты, те, кто дожил, конечно, до этого
времени. Наш домашний героин был чище и лучше. Вызывал он восхищение и у
иностранцев или русских, живших за рубежом, которые другого, кроме своего
порошкового героина, не знали.
Вернувшись с гастролей из Мюнхена, Володя привез с собой юношу. Приехали они
на купленном за копейки, теперь то я уже знаю, старом Мерседесе, или Вольво, не
помню. Было это в конце восьмидесятых, еще до моей первой поездки в Германию.
Все были в отпаде, не от юноши, от машины, конечно. Молодой человек оказался
русским по происхождению, мать его вышла замуж за немца и увезла мальчика из
Москвы в Баварию. Мальчик вырос в Германии, подсел на наркоту, начал
приторговывать на мюнхенских наркотских точках. В Баварии законы суровые, не то,
что у нас в прусском царстве-государстве Берлине, молодой человек попался с
героином, грозил срок. Именно в это время на какой-то наркотской точке или
стрелке, он и встретил гастролера, русского талантливого и ведущего артиста
Ленинградского Малого театра, Володю Осипчука. И с ним вместе, вспомнив, что он
русский поданный свалил в Питер, а оттуда в Москву к бабушке. По-моему у Володи
был роман с этим юношей. Сексуальность Володи, его эстетические предпочтения
были для всех секретом, а для некоторых загадкой. Он был глубоко верующим
человеком, и как почти все ортодоксы, как на Западе называют, нас православных,
считал гомосексуализм грехом. Кроме того, его брат, тот самый врач, у которого
Володя студентом выкрал морфин, был геем. По этому поводу у Володи тоже были
свои прибамбахи, семейные комплексы. Когда в июне 90 года, за несколько месяцев
до Володиной смерти, я начала собирать подписи в Верховный Совет РСФСР с
требованием отменить позорную 121 статью УК, карающую за добровольное соитие
между двумя взрослыми мужчинами, Володя – один из немногих моих ровесников, если
не единственный (пожилые люди, в особенности, запуганные и пострадавшие от
режима пожилые геи отказывали), мне в подписи отказал, сославшись на то, что и
так актерская братия судачит, что он голубой. Однако официально мы не знали о
Володиной личной жизни ничего. Я с самого начала догадывалась, но избегала
впрямую разговаривать с Володей на эту тему, и как бы верила в его сказочные и
мифические романы с женщинами. За время нашего обучения у него действительно был
платонический роман с сотрудницей той же самой студии звукозаписи и студенткой
театроведческого факультета, Аллой. Но ничем, кроме разговоров на институтской
лестнице, этот роман, по-моему, не заканчивался. Не знаю, надо спросить у Аллы,
я ее в прошлом году видела в Музее-квартире Пушкина на Мойке на открытии
выставки, которую она подготовила вместе с моим другом Сашей Тимофеевым,
известного и культового для другой моей компании семидесятых-восьмидесятых
годов, литератора и гея Михаила Кузмина.
Позднее лето или ранняя осень 90 года. Моя мама находилась в киноэкспедиции в
Судаке, в Крыму режиссер Виктор Соколов снимал Грецию. Создавалась удивительная
картина, потом, к сожалению искалеченная худсоветом (шли последние годы
советской цензуры) «Сократ». Виктору Соколову даже пришлось снять свое имя с
титров. Замечательными были и костюмы моей матушки, которые вместе со всем
художественным решением фильма, художник и мыслитель Тимур Новиков – культовая
фигура девяностых, назовет «неоклассицизмом». В его устах это была самая большая
похвала, так как в эти годы он и его школа сделали программной эстетику «нового
неоклассизма».
Раздался междугородний телефонный звонок. Это была мама. Голос мамы был ровен
и чересчур спокоен и потому не предвещал ничего хорошего.
- Оля, как ты? Как себя чувствуешь, что нового?
- Хорошо мама. Как ты?
- Мы снимаем. Погода хорошая.
etc. Ни слова про Соколова, который на съемках бывал просто бешеным, никаких
обычных жалоб на ленивых ассистенток. И вдруг: «Оля, Володи больше нет, он
погиб…, позвони Тане…».
Таня
Таня, моя ближайшая подруга, его и моя крестница, так же как и ее дети –
разнополые близнецы Маша и Сережа, очень дружила с Володей. Мы с Таней знали,
что Володя уехал в Ялту, а оттуда в Симферополь, отдохнуть в другую
ленфильмовскую группу, там снимались его друзья по актерской братии. Накануне
отъезда он пришел к Тане, где я его и встретила, веселый с надеждами на будущее,
он только-только переломался, и ехал в Ялту закрепить ремиссию. Звоню Тане.
Я: Таня, Володи больше нет.
Таня: Не говори глупости. Он в Ялте.
Я: Таня, он погиб в Симферополе, вылетел в окошко.
Таня: Это – сплетни.
Таня очень недоверчивый по жизни человек, а тем более поверить в такое, когда
Володя – два дня назад счастливый, переломавшийся Володя, который был у нее
дома, и вдруг нелепая трагическая смерть.
Я: Таня, это не сплетни. Мама звонила. Она же там же по соседству. Обе группы
ленфильмовские. Тут же, как это случилось, кто-то из той, другой группы, куда
приехал Володя, позвонил с известием. Это был вестник, Таня, трагический
вестник. Он рассказал, рассказал все, как было. Володя выпил. Потом все ушли за
водкой, оставив его одного. Он еще тогда говорил, что хочет летать. Вот он и
улетел…
Наконец, до Тани дошло. Моя неоднократное повторение имени мамы, которая не
будет сообщать непроверенные факты, понимание состояние Володи, сделали свое
дело. Таня, наконец, все осмыслила и со свойственным ей рационализмом себе
объяснила: человек, только, что переломавшийся, без защиты наркотиков –
открытый, доверчивый, слабый, и тут, водка, он просто был не в себе.
Я не знала и не хочу знать, кто был тогда, в ту трагическую ночь, рядом с
Володей. Этих людей он называл своими друзьями. Я никогда не любила всю эту
актерскую пьяную братию вокруг него. Слухи о том, что Володя торчит, во всяком
случае, что он психически неустойчив, курсировали по институту и студии. Еще
Кацман и Додин боялись взваливать на него роль Алеши Карамазова в дипломном
спектакле курса «Братья Карамазовы», боялись за его психику, за его неокрепшую
душу. Еще моя мама в 83 году, когда работала с Володей на
приключенческо-авантюрном фильме Михаила Ордовского «Каждый десятый» спрашивала
меня, не торчит ли Володя. Мама понимала в этом, конечно, неплохо, но еще
вдобавок сослалась и на других сослуживцев, которые обсуждали состояние Володи.
Знали об этой Володиной болезни или, во всяком случае, догадывались и эти пьяные
Володины друзья-приятели летом 90 года в Симферопольской гостинице. Почему же
они оставили его одного? На этот вопрос ответа нет, и не будет, поэтому я не
знаю и не хочу знать, кто был рядом, а когда рассказывают мне об этом, тут же
забываю имена и фамилии тех людей, кто упустил нашего Володю.
Вот такие вот воспоминания о Володе Осипчуке, моем друге юности, посетили
меня на берлинской кухне в ночь перед Рождеством. И еще я вспомнила, как
приносила ему на приемку спектакля раствор, или как он срывался посреди
репетиции, ловил тачку и мчался с Рубинштейна на Петроградскую за ширевом. Все
это, чтобы мочь играть. И еще многое, многое другое, связанное с Володей, и
другими заблудшими душами, трагическими смертями. О чем я, наверное, еще напишу.
Я молчала. Маша молчала, тоже, наверное, что-то вспоминала. Андрей ублажал
разговором Майк.
/…/
Гепатит
Весной 93 я очередной раз уехала недели на три в Питер, вернулась почти к
самому началу Международной конференции по СПИДу. Не помню точно, незадолго до
конференции, или во время конференции я почувствовала слабость, непреодолимую
усталость, от которой меня просто с ног валило. Через несколько дней
почувствовала себя плохо и Майк. Шли дни, но усталость и слабость не проходили,
это состояние явно не было простудой, тем более гриппом. Симптомы напоминали
гепатит, но желтизны на белках глаз у меня не было, у Майк же, если очень-очень
захотеть ее можно было найти. Наверное, я очень захотела, ползала вокруг Майк с
лупой, все это при ярком солнечном свете, который отражался солнечными
желтоватыми зайчиками в ее глазах, и обнаружила известные мне желтушные
симптомы.
Когда мне было 6 лет, я тяжело болела гепатитом B, которым меня по халатности
медсестер, плохо продезинфицировавших шприцы, заразили в Педиатрическом
институте, где я лежала с другим заболеванием – мононуклеозом. Педиатрический
институт считался в те времена лучшей клиникой для детей, и меня туда по блату
определил писатель Юрий Павлович Герман, «певец» не только милиции, но и врачей,
за что те и другие его очень уважали и искренне любили. Протекция помогла, я
лежала в наилучших условиях, меня лечили наилучшие врачи, но от халатности не
спасла. Я хорошо помню, как долго болела гепатитом, а он был в очень тяжелой
форме, как около года была на диете, мне запретили, есть мой любимый шоколад и
нелюбимую жареную пищу. Все эти годы я берегла свою печень и жила на щадящим
режиме: не ела жирного и острого, устраивала себе «тихий час» около пяти часов
после полудня, как она любимая от меня требовала. Единственное, чем нарушался ее
покой, это вечными срывами, или точнее, скачками туда обратно – от сильных
наркотиков к clean состоянию. А это для печени самое вредное, надо либо торчать,
либо не торчать. В результате большую часть сознательной жизни я находилась в
состоянии, если не ломок, то кумара, не говоря, уже о тех периодах, когда я
плотно подсаживалась, а затем круто ломалась, как будто бы специально издеваясь
над собою и своей бедной печенью. Гепатитом B я больше не болела, так как
остался у меня, как и положено, антивирусный ген, или что-то в этом роде,
защищавший меня от новой напасти. А шмыгались мы в те годы одним шприцом: шприцы
достать было сложно, поэтому все вокруг болели гепатитом, о СПИДе еще никто не
знал. Детский опыт и недавняя память о гепатитах моих друзей не дали мне забыть,
как он этот гепатит выглядит.
Поставленный мною диагноз оказался правильным, у нас был гепатит. Откуда и
как он к нам забрел, я не знаю, и до сих пор мистерия эта не дает мне покоя.
Друзья Майк никакой тайны в источнике заражения не видели. Для Барбары и ее
окружения я была источником заразы. Вся зараза, все плохое шло от меня. Они
думали здраво и просто, по-немецки рассудительно, без всяких там рефлексий и
сомнений. Раз я инъекционная junkie, то и вирус принесла на игле. Между тем, с
тех самых пор как мне стало известно о СПИДе, я двигалась исключительно своим
шприцом и иголкой. Но гепатит С – более гибкий, хитрый и прыткий, чем СПИД, и им
запросто можно заразиться из общего пузырька с раствором или общей ложки. А
героин свой доморощенный переливали мы в пузыречек, а из пузыречка этого
нестирильными баянами своими, поелозив там немножечко, и выбирали. Но дело в
том, что в 93 году еще не было зарегистрировано ни одного случая гепатита С в
стране нашей необъятной. Сама Аза Гасановна Рахманова – неутомимый главный
гепатолог и спидолог Питера, мне об этом сказывала. Позже, позже, он появится, и
вскоре эпидемией аукнется, сначала для наркошей начинающих и сединами убеленных,
ему все равно, а затем и для всех остальных, кто себя не очень безопасным сексом
утруждает. В Берлине же все junkies в ложке готовили героин свой западный да
порошковый, и я пару-тройку раз к ним пристраивалась, но ложку каждый раз свою
имела. Таким образом, я исключаю, что могла гепатит через иглу подцепить и Майк
им одарить. Тем более, Майкин серологический анализ показывал, что гепатит у нее
хронический, а у меня нет. До сих пор храню я бумажечки эти, справочки
врачебные.
Гепатит этот, наверное, дал первую трещину в наших отношениях и породил
первую серьезную размолвку между нами. Все накипевшее недовольство мною Майк,
наконец, выразила.
Лежали, лежали мы в кровати, ко мне Хайко приезжал, а Майк, видимо, завидно
стало, что он так подчеркнуто лишь меня осмотру врачебному подвергал, и тогда к
Майк приехала подруга Барбары – «Х». Не помню, как ее звали, но имя было
женственное, донельзя феминное. Это мы давно с Майк подметили, все коблы носят
такие из себя жеманно-кокетливые имена, и чем бутчее butch, тем имя у него
феминнее. Кожаная куртка, кожаные брюки, вся из себя эсэмовская кожаная. Эта
Биргит, по-моему, Биргит ее звали, профи S/M и профи массажистка, сделала Майк
оздоровительный с эзотерическим уклоном массаж. Злодейка Барбара, Барбара-Домина
ей приказала и видимо строго-настрого наказала также все прихоти да желания Майк
выполнять. А Майк возжелала в больницу ехать, полечиться, а меня
одну-одинешеньку дома бросить. Итак, кожаная эзотерическая Биргит после
исполненного массажа заходит в комнату, где я отстукиваю на югославской
портативной механической пишущей машинке Unis Luxe (точь-в-точь такой же, как у
меня в Питере стояла, купленная в 79 году мне на подаренные по этому случаю
Надеждой Наумовной, родственницей моей, 230 рублей), выполненной по образцу и
подобию немецкой Олимпии, которую достал мне (русскую-то машинку на неметчине!)
благодетель мой Андреас напрокат, и так по возможности вкрадчиво приглашает меня
на разговор. «Мол, де, так и так, устала Майк, больна она, хочет в больницу,
чтобы за ней там ухаживали: готовили да убирали, да жалели». Я покраснела,
побледнела, во рту пересохло, не знаю, что и сказать. Майк может в больницу
лечь, а у меня страховки нет, мне, что ж в Питер уезжать, так я до него могу и
не доехать в таком состоянии, упаду где-нибудь от слабости, умру в одиночестве,
и зароют меня в землю чужую, с инородцами всякими да иноверцами. Мать моя, сыра
Земля, Богиня моя Великая, что же со мною будет?!
Сжалилась надо мною Деметра и дочь ее Персефона, Майк уже одетая и с
собранной дорожной сумкой в руках, села за стол переговоров. «Я хочу, есть, и не
в силах готовить. Хоть раз в жизни ты можешь позаботиться обо мне!» – обиженно
произнесла она.
Мы – я и кожаная Биргит, начали готовить, быстро, быстро резать овощи:
кабачки, синенькие, морковку, лук, и по совету Биргит еще и экзотический фрукт –
банан, в придачу. Майк была довольна. Поела и успокоилась. Итак, этот поединок я
выиграла. В этот раз злодейке Барбаре не удалось нас с Майк разъединить. Мы
продолжали болеть, но болеть вместе. На душе стало более радостно, я начала
поправляться, вслед за мной поправлялась и Майк.
Не обошлось дело нашего выздоровления и без помощи Магиды. Магида
посоветовала нам обратиться к альтернативному доктору, работающему при поддержке
Берлинского Сената в каком-то проекте. Доктор диагностировал по радужной
оболочке глаза. И, несмотря на общий гепатит, альтернативный доктор прописал нам
с Майк разные травки-муравки, которые мы купили в соседней с доктором аптеке, и
пили, каждая свой отвар в течение двух недель.
Надо сказать, что в своих претензиях ко мне Майк была права, основные покупки
продовольствия и готовку я без всяких раздумий взвалила на ее плечи. Все, что в
этом смысле я делала, это по утрам я бегала за булочками и намазывала их джемом
и готовила кофе, а в субботу к завтраку приносила еще и газету для Майк –
«Berliner Zeitung». Обед готовила всегда Майк. Если ее не было дома, я терпеливо
ожидала, когда она вернется, и мне в голову не приходило, что что-то я могу
сделать сама и чем-то могу ей помочь. После этого случая я стала чуть более
внимательна ко всем подобного рода мелочам. Любовь же Майк к больницам, можно
сравнить с ее любовью оставаться на ночлег. И в том и в другом случае, ей не
только не надо было заботиться о других, но и о себе, за нее это делали другие –
друзья у которых она оставалась, и медицинский персонал больниц в которых она
лежала.
/…/
Игорь Павлов
Все эти годы, почти с самого начала создания Фонда Чайковского, меня
сопровождал мой юный друг Игорь Павлов. Он был рядом со мной в Питере, он был
рядом со мной в Берлине. В начале апреля 1998 году – в день рождения другого
Игоря, нашего общего друга – Игоря Лившица, Игорь Павлов ушел из жизни. Ему было
тогда неполных 26 лет. Обстоятельства его смерти остались не до конца
выясненными. Похоже на то, что в тот трагический вечер он варил героин на кухне
одной из своих многочисленных питерских приятельниц. Пламя от выпариваемого
ацетона или растворителя выпрыгнуло из ковшика, взметнулось к Игорю, задело его
воздушную дизайнерскую одежду,… Скончался он на следующий день от несовместимых
с жизнью ожогов.
Как я просила, умоляла Игоря не начинать торчать. Его эксперименты, по
счастью, не были связаны со мною. Кто-то другой инициировал его в наркотики. В
основном он увлекался психоделиками и травой. Про героин, зная мое страх перед
этим самым эмоционально сильным и комфортным наркотиком, он долгое время от меня
скрывал.
Почему одни люди подсаживают других людей на наркотики? Расхожее убеждение,
что это выгодно, справедливо только в случае совсем конченых наркотов, да барыг.
Они угощают неофита кайфом, ему это нравиться, затем, новообращенный
со всей своей страстью прозелита – воскресшего из тлена обыденности и
уверовавшего в светлое будущее, начинает через них, или у них покупать кайф, ибо
других дырок у него нет. Все логично и просто. Но, как правило, не соображениями
выгоды руководствуются эти люди, они просто желают поделиться со своими близкими
СВОИМ счастьем, СВОИМ откровением. Они чувствуют себя мистагогами, иерофантами,
а то и богами, которые делятся высшим знанием с непосвященными. Именно таким
мистагогом считал себя Игорь, угощая кайфом, он совершал некую миссию, он
одаривал ближних. Игорь не мог переживать радость в одиночестве, он хотел
поделиться с друзьями увиденным, услышанным, осознанным, осмысленным.
Несколько лет назад я написала заявку на документальный фильм об Игоре,
замысел так и остался нереализованным. Жаль, очень жаль, учитывая, что есть горы
отснятого об Игоре и его друзьях, его питерском окруженении, материала. Материал
был сделан поздним летом 1994 года, после того как я, а затем и Игорь вернулись
из Берлина домой. Его снимали немцы: оператор и режиссер Эльфи Микеш, при
участии Кристофа Эсхорна, и еще одной американки. Консультативную, переводческую
и менеджерскую помощь оказывал, как обычно в таких случаях, вездесущий Андреас.
Фильма, увы, не вышло, причин тому несколько: отсутствие денег и потеря
интереса. Через некоторое время после смерти Игоря, окончательно осознав
случившиеся, я решила, что, быть может, общими усилиями нам удастся сделать
фильм об Игоре. Пока из этой затеи тоже ничего не вышло, воспользуюсь случаем и
приведу здесь написанную мною заявку:
Нарратив от лица нескольких друзей
Мы несколько друзей Игоря, решили создать фильм о жизни/смерти Игоря. У
каждого из нас, как заметил Кирилл «есть свой фильм об Игоре». Тем не менее, мы
надеемся, что результатом нашего коллективного творчества станет единый и
цельный фильм, в котором каждый из нас сможет дать свое видение истории Игоря и
по возможности привнести свою часть в работу над картиной.
Наш фильм не только мемориал другу, но и рассказ о герое нашего времени на
фоне этого времени. Герое гомосексуального движения, техно и панк сцены,
социалистического поп-арта. Игорь являлся своего рода зеркалом питерской
андеграундной тусовки 90-х годов. Он не только ее детище, но одновременно
актер-исполнитель и наблюдатель.
Ольга: Он родился 4.07.1972. Я - 6.07.1960. Он был крысой и раком, как и
я.
Игорь: Он родился 4.07, а умер 7.04. Я же родился 7.04. Магия цифр,
которой он всегда уделял большое значение. Смерть-возрождение.
Он метался между Санкт-Петербургом и Берлином, Россией и Германией. Между
двумя культурами. Православием и сектантством. Целибатом и жёстким сексом. Между
изнуряющим воздержанием и наркотиками. Между жизнью и смертью.
Он жил по полной программе, на износ. Человек экстрима. Он все хотел
прочувствовать до конца, до основания. И ему это удавалось. Прожить в одной
жизни сразу несколько. Он сжигал свою жизнь, сжигал себя.
И он сгорел, сгорел в неполных 26 лет. Сгорел метафорически и буквально.
Андреас: Он как Икар дошел до солнца и сгорел.
Его одежда воспламенилась от газовой плиты. Обгорело три четверти тела. Умер
он уже в больнице.
Ольга: Он не смог бы жить калекой. Он себя так любил. Хотел быть
совершенным. Во всем. Так как он это совершенство понимал.
Рутина была ему не просто чужда. Она была ему ненавистна. Он хотел всего и
сразу. Успеха, достатка, известности. Он хотел быть не только художником, но и
героем. Недаром его любимцем и образцом для подражания был космонавт Юрий
Гагарин. Но это было непросто.
Андреас: Он устал от борьбы. Вечной борьбы между амбициями и возможностями.
Он был уверен в своем предназначении. И стремился к высшей цели. К
недостижимому идеалу. С пламенным, горящим сердцем. Он имел способность заражать
своими чувствами других людей и одновременно отражать чужие чувства.
Маша: Он молниеносно все отражал, рефлектировал. Из него получился бы
большой художник. История Игоря – история прерванного полёта.
Он рисовал, делал коллажи, инсталляции, создавал костюмы. Писал стихи. У него
было необычайно развито чувство прекрасного. Отношение к красоте у него было не
созерцательное, а страстное. У мальчика из простой рабочей семьи, выросшего в
питерской коммуналке, окна которой смотрели на Летний сад.
Клаус: Игорь погружался в каждую вещь, с которой он соприкасался, ища
что-то. Он сидел ночами, делая свои коллажи. Тонкой, тонкой ручкой и очень
легко, он проводил линию. Это была своего рода медитация.
В его подходе к вещам было что-то пламенное, страстное и одновременно
холодное. Он любил рассматривать предметы, людей. Рассматривал их в развитии.
Игорь: В нем была особая чуткость наблюдения за миром. Так он любил
наблюдать процесс старения. В подвале он хранил старые заплесневелые башмаки, не
давая их выбросить, говорил, что наблюдает процесс разложения. Или он повесил на
лесенку строгий собачий ошейник и следил за его ржавлением.
Одно время он носил этот ошейник и для него это был не просто S/M фетиш, это
был символ страдания.
Игорь: Он любил причинять себе страдания. Одно время, считая себя за
Христа, любил изображать Христа на кресте – мученика, страдальца.
Он пришел к православию в Германии, под Мюнхеном в монастыре. И отдался этому
со свойственной ему страстью, как всегда до конца, до основания, до фанатизма. И
вдруг через полтора года в родном Питере он попадает в секту «Братцы», секту
«народных трезвенников». Вероятно, таким образом, он старался соединить
православие со стихийной народной верой, и через эту веру осуществить свой идеал
воздержания от наркотических средств.
Он судорожно искал духовность в религии, наркотиках, сексе. На какое-то время
находил успокоение, принимая это состояние за духовность. Но, скоро
разочаровавшись, начинал опять. Так было и с «Братцами», эйфория длилась лишь
несколько месяцев. Буквально накануне своей трагической гибели он их покинул,
видимо вернувшись к наркотикам.
«Братцы» не простили отступничества. Они шумно и вызывающи, вели себя на
похоронах. Кричали о возмездии, о каре. С тех пор мама Игоря является
прихожанкой секты...
/…/
Возвращение в Питер Решение об эмиграции принято
Опять я оказалась в родном городе. Питер жил своей жизнью. Я больше не была
включена в эту жизнь и чувствовала себя, как никогда, на обочине. В мае, приехав
на несколько недель из Берлина, я благополучно защитила кандидатскую
диссертацию. Незадолго до защиты, накануне православной Пасхи умерла Софья
Викторовна Полякова. Я была на похоронах и поминках. Ушел еще один человек,
связанный для меня с культурной традицией моего Питера.
Жизнь горожан становилась все тяжелее. Результаты годаровской экономической
реформы бросались в глаза на каждом шагу. В этот приезд у меня появилось время
увидеть не только звериный оскал разрухи и карнавальные маски новых нэпманов, но
и получеловеческое существование обнищавшего населения города. Экономическое
давление оказалось для многих не менее страшным, чем давление идеологическое.
Среди них были и выдержавшие и не уехавшие в семидесятые годы и в девяностом мои
старые и новые друзья, и знакомые, а сейчас они сидели, что называется «на
чемоданах» скоропалительно уезжая в Израиль. И вдруг по городу пронесся слух:
Германское консульство вновь открыло прием документов на еврейскую эмиграцию.
Мне позвонил Боря Кондрахин, вслед за мной приехавший из Берлина навестить в
Питере своих родителей, и сообщил, что довольно близкая его приятельница Лена –
бригадир одной из очередей в консульство.
Эмиграция евреев. Очередь
Все эти годы, по-моему с конца 92 по ноябрь 94, евреи, полуевреи и члены их
семей, словом, все те, кто документально мог доказать свое еврейство, под
покровом ночи, ходили отмечаться в очередь. Они стояли у консульства под дождем
и снегом, под редким солнцем и частым ветром, узнавали новости и отвечали «да»
на выкрики их фамилий бригадирами. Все это время я более или менее благополучно
жила в Берлине. Уже два года не было проблем с продлением вида на жительства, но
вид на жительство был временный, с ограниченным правом работы, медицинской
страховки у меня по-прежнему не было, квартиры не было, гарантий не было,
социального защищенного будущего не было ни здесь, ни там. Мне несказанно
повезло, приятельница Бори бригадир Лена благополучно определила меня в очередь.
Всего один раз хмурым и дождливым ноябрьским днем мне надо было собственноручно
отстоять в живой очереди у консульства. И там я встретила нашу с мамой
многолетнюю мастерицу по косметическому облагораживанию лица и шеи со старшей
дочерью. Младшая дочь семьей вовремя, еще до, растянувшегося на два года,
прекращения эмиграции российских евреев в Германию, уехала в Гамбург.
посоветовала мне, на всякий случай, взять две анкеты: на себя и на маму.
Возможность такая была, мама дала мне, тоже на всякий случай, свой драгоценный
для этого мероприятия еврейский паспорт, думая, вероятно, что свидетельства о
рождении может быть не достаточно. С двумя паспортами – своим русским плюс
свидетельство о рождении с мамой еврейкой, и маминым еврейским, я получили две
анкеты. Мамина анкета так и осталась невостребованной. Мамин еврейский паспорт
неожиданно запросили года через два, при очередной внеплановой перепроверочной
кампании, когда немецкими властями было уже определено время и место моей
эмиграционной оседлости.
Через пару недель, подготовив копии и переводы всех указанных в списке
документов, я сдала их благополучно в Германское консульство. Один этап по пути
к вечному paradise´у с Майк на немецкой земле был закончен.
Но я находилась в России, вновь срываться в Германию не было ни сил, ни
смысла. Дела закончились, и наступил новый приступ тоски. Я чувствовала себя все
хуже и хуже, и физически и морально. По-прежнему не оставляли меня печеночные и
желудочно-кишечные недомогания, а железный обруч вокруг головы стягивался все
плотнее. Но главное, что меня тревожило, это беспокойство и неудовлетворенность
жизнью. Мысли о неправильности выбранного пути не оставляли меня. Я решила
искать другой собственный духовный путь. Православие не давало ответов на мои
вопросы. Наркотики тоже. Я была не одинока в своих метаниях.
Нью эйдж. Первая ступень. Рукомахатели
Экономический кризис в стране, разочарование в демократических идеалах,
потеря идеологических и духовных ориентиров, вызвали к жизни не только расцвет
традиционных религий и церквей, но и всякого рода евангелических сект, а также
кружков и групп New age. Начиная с конца восьмидесятых, с Востока и Запада
хлынули в Россию миссионеры и эмиссары всех мастей. И в конце 94 года, когда я
стала судорожно озираться по сторонам в поисках духовной поддержки, в Питере уже
можно было найти проповедников и гуру на любой вкус, и любой масти. Поистине
духовное многообразие: иудеи-ортодоксы, иудеи-хасиды, иудеи-реформисты,
мусульмане-фундаменталисты, мусульмане-суфисты, христиане-католики,
православные, протестанты разного толка, среди них пятидесятники и харизматы,
мессианские евреи, саентологи, кришнаиты, транснациональные медитаторы,
рериховцы-агни-йоговцы, спириты, теософы – последователи Блаватской и
антропософы – последователи Штейнера, кастанедовцы, снежники, всех не
перечислишь. Среди них выделялись многочисленные экстрасенсы православной
ориентации. К одному из таких бесноватых экстрасенсов я и направила свои стопы.
Не помню точно, где располагалась эта эзотерическая практика, помню только,
что недалеко от моего дома, в районе Кировского (Каменноостровского) проспекта.
Смутно помню какую-то тетку в регистратуре, взявшую с меня энный довольно
ощутимый денежный взнос. Помню худое лицо экстрасенса, его колючий взгляд,
живот, возвышающийся над ремнем, серый костюм и белую рубашку.
Экстрасенс начал махать руками перед моим носом, затем поставил мне диагноз –
одержимость бесами. И занялся экзерцизмом – изгнанием этих самых демонов из моей
бедной исстрадавшейся души.
Этот экстрасенс-рукомахатель был мало похож на подвижника, получившего дар
изгнания бесов за свои смирение и веру, он скорее производил впечатление
бесноватого.
Поэтому или по другим каким-то причинам, демоны не пожелали покидать меня.
Спасения моей заблудшей души явно не произошло. Напротив, после этого «лечения»
я почувствовала себе еще хуже. Некогда слаженный организм никак не хотел
нормально функционировать.
Следующий поход был в фитотерапевтическую практику, туда, где лечили
лекарственными растениями. Строгой девушке был еще памятен ее положительный опыт
лечения гепатита травками-муравками в Берлине. Санкт-Петербург, конечно не
Берлин, и Аптекарский остров, где была обнаружена эта фитотерапевтическая
практика, не Кройцберг 36. Мэрия Санкт-Петербурга и мэрия Петроградского района,
в отличие от Берлинского Сената и администрации Кройцберга, не поддерживали сие
начинание, поэтому фиксированная стоимость консультации превышала раз в десять
ту добровольную плату, которую мы с Майк радостно отдали в Германии.
Альтернативная медицина в России носила исключительно коммерческий характер.
Зато в Питере мне не пришлось идти в аптеку и платить деньги за травки. Сбор
необходимых лекарственных растений травники выдали мне на месте, и стоимость его
включили в стоимость консультации.
Лекарственный отвар помог больше, чем отчитка – экзерцизм, работа
желудочно-кишечного тракта и печени улучшилась. Но теперь начало учащено биться
сердце. Пришлось обратиться к традиционному врачу в поликлинику ВТО. Меня
осмотрели несколько врачей: терапевт, хирург и кардиолог. Кардиограмма показала
инфаркт. На скорой помощи в сопровождении мамы меня отправили в реанимацию
Свердловской больницы.
Не помню, по каким причинам меня направили к хирургу. Хирург была строгой
сильной женщиной. По-моему, это была мама одной моей знакомой.
О. училась со мной в 80-ой школе, на три года младше. Она успела побывать
замужем за, и благополучно развестись, у них рос общий ребенок. О. была
человеком абсолютно бесконтрольным, жила на полную катушку, на грани беспредела.
Принимая наркотики, не понимала, что творит, приходя в себя, искренне удивлялась
содеянному. Родители врачи неоднократно лечили О., но она срывалась опять. Сына
практически воспитывали родители О. и М.. Незадолго до отъезда М. в Израиль, по
городу пронесся слух о зверском убийстве О., она была расчленена на куски,
озверевшими после марцифального многонедельного марафона «друзьями», с ее,
отрезанных пальцев, были сняты антикварные брильянтовые кольца, с отрезанных
ушей – брильянтовые старинные серьги. Затем ее останки сложили в бочку и
спрятали на свалке. Ее трагическая гибель вписывалась в ее непутевую драматичную
жизнь. Вот, кто действительно был, одержим бесами, так это О.
Если хирургом была ее мама, то она держалась просто отлично, описанное
событие произошло незадолго до моего обращения в поликлинику ВТО.
Джеф, марцифаль, мулька – метамфетамин, производный из эфедрина гидрохлорида,
тема особая. Жертвы джефа, как правило, умирают не от передозировок, а от
насилия. Я еще не раз вернусь к этой болезненной теме.
А пока, забыв об О., о смертоносном джефе и других наркотиках, отбросив,
прочь воспоминания, в которые я окунулась после посещения кабинета хирурга,
озабоченная только своим состоянием здоровья я мчалась на скорой помощи на
Крестовский остров в бывшую Свердловскую больницу.
Свердловка
Именно про Свердловскую больницу комсомольский поэт и автор непечатных
афоризмов, зачастую состоявших из ненормативной лексики, которые прочно вошли в
интеллигентскую устную традицию, Михаил Светлов, писал: «У нас полы паркетные, у
нас врачи анкетные». Свердловка, как ее называли в «народе», была известна в
советские времена как больница для ленинградской партийной номенклатуры.
Лечились там и знаменитые партийные и беспартийные деятели литературы и
искусства, видимо среди них и прославивший ее в своем шуточном стихотворении,
Светлов. В начале девяностых Свердловка превратилась в почти обычную районную
больницу: многие врачи остались прежними, а медицинское оснащение, лекарства и
бытовые кондиции по-прежнему отличали ее от других городских клиник. В ней
появились и платные больные, условия, содержания которых мало, чем разнилось с
бесплатными. Единственные радикальные изменения произошли в сфере питания. Если
в советские времена, в Свердловке кормили, разве, что не черной икрой, то сейчас
держали на полуголодном пайке.
В реанимации я пролежала два дня, на третий – врачи, наконец, пришли к
заключению – инфаркт ложный. У меня был невроз. Мне предложили полежать в
больнице, подлечиться. Начался следующий виток в моем лечебном процессе –
медицина традиционная. Аллопаты оказались более реальными людьми, чем гомеопаты
и экстрасенсы-обскуранстисты-мракобесы, они делали мне всевозможные анализы и
обследования, показавшие мое относительное здоровье.
К концу пребывания в больнице мое физическое состояние начало приходить в
норму. Практически остались лишь странные мигрирующие спазмы в голове и тяжесть
в затылке. А жить не хотелось по-прежнему. И я решила уйти из жизни.
В Свердловке я познакомилась с молодым человеком из платного отделения. Он
был представителем нового поколения, попавшего в мясорубку российского
безвременья. Молодого человека навещал приятель, способный, по его собственным
словам, на заказное убийство. Не помню точно, он еще оттачивал свое киллерское
мастерство или уже имел практику. В любом случае, это хрупкое внешне, но жесткое
изнутри созданье, пошло навстречу моему желанию, и, взяв денежный взнос на
приобретение оружия в твердой валюте, благополучно исчезло из моей жизни. Затея
с треском провалилась.
Я продолжала влачить безрадостное существование. Между тем лечиться мне
понравилось. Следующим врачевателем стал сибирский шаман. В Питере его бизнес
здорово раскрутили. Чтобы попасть к нему надо было заранее записаться на прием и
еще отсидеть в живой очереди – в качестве зрителя, несколько часов.
Шаман
Шаман принимал в помещении районной библиотеки, где-то недалеко от станции
метро «Ломоносовская» или «Елизаровская». Ранним холодным декабрьским утром я с
мамой, в качестве эскорта, нарисовалась у дверей библиотеки. Меня бил озноб, на
камлание надо было прибыть натощак.
Шаманский экзерцизм носил групповой характер. Ритуальные практики заражали
присутствующих. Читальный зал библиотеки, где проходило действо, ломился от
посетителей – пациентов и их близких. Шаман бил в бубен и стучал в другие,
неизвестные мне фольклорные инструменты, доводя себя и особо восприимчивых
присутствующих до иступленного экстатического состояния. Когда шаман был готов,
т. е. попал по небесной лестнице в сверхъестественный мир духов, он приступил к
непосредственной работе с клиентами. Он прыгал на их спинах и груди, совершая
различные манипуляции. Часа через два наступила и моя очередь.
Не помню, как, я попала на заменяющее подиум пространство. Полуголый шаман,
одежда которого состояла из одной набедренной повязки, приблизился ко мне. Он
был небольшого роста, чуть выше меня, с гладким безволосым телом, от него, как
нестранно, при такой физической нагрузке, ничем не пахло. Сейчас, зная больше о
шаманских практиках, я думаю, камлая, он выходил из своего физического тела, со
страждущими работало тело астральное. Шаман подстелил под меня простыню и уложил
меня. Библиотечный пол был давно не мыт, и я поняла, почему организаторы просили
принести простыню. Сначала гастролер из Сибири прыгал на моей спине. Вопреки
ожиданиям, я почти не ощутила тяжести его тела. Это продолжалась минут
пятнадцать, не меньше, несколько раз мне было нестерпимо больно, но боль длилась
лишь считанные секунды. Затем он стал мануальничать с моими ступнями.
Акупрессура закончилась только когда шаман нашел нужную точку, и я взлетела
вверх от боли. Затем меня перевернули, теперь шаман прыгал на моей грудной
клетке.
«Шаманку призвал идольскими чарами его пользовать» звучали в моей голове
слова православного епископа из повести Н. Лескова «На краю света» о тунгусской
шаманке целительнице.
И я достойно выдержала «идольские чары» моего сибирского мучителя-целителя.
Смотрящая на все это со стороны моя мама решила, что теперь я смогу вынести
абсолютно все.
Рано или поздно мои эксперименты с нью-эйдж шаманами, экстрасенсами и другими
нетрадиционными целителями закончились. Мне просто в один момент надоело
лечиться, платить деньги, ехать куда-то ранним утром, а практически в ночь и
холод, когда все нормальные люди, дружащие с богом сновидений Морфеем, еще
досматривают интересный сон, либо поздним вечером, когда все в театрах или на
парти, тащиться на излечение к очередному придурковатому, но предприимчивому
целителю. Я устала. И решила вернуться в Берлин. Тем более на носу был ежегодный
Международный кинофестиваль «Берлинале».
/…/
Белое: Феномин. Перветин. Эфедрин. Марцифаль. Мулька
Леша Розенфельд был сыном композитора …..Розенфельда, в конце семидесятых,
когда я с ним познакомилась, я не знала, что его фамилия означает – «Розовое
поле», для меня это была обычная еврейская фамилия, не более. Он был другом
детства Анри – Анриса Гринблата и Алика Архимандритова – тоже композиторских
детей. Они были приблизительно одного возраста и дружили с детства. Когда
наступил пубертет все трое подсели на кайф.
Анрис
Анрис вернулся из Риги, где проживал с мамой, в Ленинград и поселился у папы.
В Риге он подсел на циклодол. Был такой странный кайф, популярный в основном в
Латвии. Циклодол, паркопан, артан – Паркинсоново лекарство. Если при болезни
Паркинсона оно приводит в порядок расслабленные мышцы, то у нормального
человека, напротив их расслабляют. Возможны и галлюцинации. Это – очень странный
«наркотик», в Питере его принимали немногие, дети и подростки. Из взрослых людей
лишь те, у кого не было наркосвязей и денег. Остальные, попробовав, на следующий
раз в ужасе отказывались. Анри подрос. Поумнел и тоже отказался от этого
идиотского галлюциногенна. Но у Анриса никогда не было денег, поэтому он жрал,
курил, вмазывался только тем, чем его угощали друзья-приятели.
У Алика Архимандритова тоже, как правило, денег не было. Впрочем, они мало у
кого были из моих приятелей юности. В основном мы жили и торчали за чужой счет.
А счет мог быть разным – от дружеского до бандитско-мошенического. Разницы мы не
делали, брали, что дают, и от всех, кто давал. Мы явно забыли стихи великого
Омара Хаяма. Один рубай звучал следующим образом:
«Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама».
Мы были абсолютно беспринципны и безнравственны в смысле денег и наркотиков,
брали там, где было на халяву. Мы общались, с кем попало, лишь бы у этих людей
были деньги и кайф, и, принимая из рук этих людей таинственную сому/хаому
индоиранского культурного локуса, ареала, где вырос и сформировался автор этих
стихов, великий классик персидско-таджикской поэзии – Омар Хаям, совсем не
думали, что разрушаем себя этим, неизвестно у кого взятым, и неизвестно какого
сакрального и физического свойства, наркотическим зельем. Вот такими мы были.
Леша Розенфельд отличался от нас тем, что, банкуя наркотой, кровавой ценой, но
приобретал себе свободу от «бальзама» из «рук дурака» и общения «с кем попало».
Леша Розенфельд
Итак, Леша Розенфельд отличался от обоих своих друзей детства. Он рано начал
делать деньги, продавая кайф, и тем самым, отбивая себе вмазку-другую. От обилия
кайфа или по другим, каким причинам – наследственность, плохое здоровье, он и
сторчался раньше всех. В середине семидесятых я не была еще с ним знакома, и
слышала от Анри, Алика и своей приятельницы Неточки – тоже композиторской дочки,
каким он БЫЛ красавчиком – фигура прекрасная, лицо удивительное, глаза томные,
цвет щек как у персидской барышни и т. д. Когда я с ним, наконец, встретилась на
рубеже семидесятых и восьмидесятых – это был неопределенных лет мужчина, без
следов былой красоты на лице, сторчавшийся и опустившийся. А он торчал в те годы
на фене, а если денег на фен не было, то пил валерьянку и корвалол, как
последние бомжи с пьяного угла.
Его квартира на Лиговке, где он жил с матерью и женой, представляла зрелище
удручающее. Отец умер, оставив семье немного денег и антиквариат. Мама,
по-моему, никогда не работала. Леша – тоже. Его жена – тоже. Сначала они
переехали в другую квартиру, получив за обмен внушительную сумму денег. Затем
начали проживать небольшое наследство. Естественно прожили его довольно быстро:
сначала деньги, потом драгоценности. Квартира не убиралась месяцами, она
напоминала дешевый дурно пахнувший притон. Находилась она на первом этаже во
дворе колодце. Очень удобное место для ночных посиделок. Что днем, что ночью там
было темно, мрачно и сыро. Леша, как правило, жил ночью. Вставал часа в 2-3 дня,
если, конечно, вообще ложился. Потому что, употребляя амфетамины и
метамфетамины: феномин, первитин, эфедрон, можно было не спать сутками. Когда
Леша уставал или кайф заканчивался, он ел и ложился на несколько суток поспать.
В тот год, когда я с ним познакомилась, он банковал самопальным феномином или
«феном», как он назывался на жаргоне питерских наркотов. Фен – это амфетамин. Он
давно уже был снят в СССР с производства, и его делали химики-умельцы в домашних
лабораториях. Леша имел хорошую «дырку», где довольно дешево покупал или брал в
долг несколько грамм фена, продавал его, и сам с женой вмазывался. Покупал опять
и т. д. по кругу.
Игорь Франкенштейн
Привел меня к Леше. Не Анри, ни Алик, и не Нета, но мой приятель
эзотерик-диабетик Игорь, по кличке Франкенштейн. Игорь Франкентштейн появился на
Казани году в 77, с книжкой Шелли «Франкенштейн» под мышкой. Этим и заслужил
свое прозвище. Игорь был болен диабетом и с детства сидел на инсулине. Это не
помешало ему начать торчать. Торчал он на всем, на что хватало возможностей и
средств. Но в результате остановился на амфетаминах и метамфетаминах. Он был
один из первых моих знакомых, кто подсел на марцифаль. Он же был одним из
первых, кто от нее погиб. А пока на рубеже семидесятых-восьмидесятых он торчал
на фене. Брал фен у Леши Розенфельда для друзей и знакомых. А те его угощали. Да
и Леша за посредничество подкидывал малеху. Так и жил Игорь, от случая к случаю
вмазываясь. И вот однажды он уболтал меня вмазаться феном. О фене я к тому
времени слышала много. Впервые мне рассказал о феномине Сережа – друг Алика
Архимандритова. А. и Архимандритов составляли хорошую пару – оба с длинными
волосами, оба хипповатые и плюс оба имели фамилии священнослужителей. Так вот,
Сережа рассказал мне о неком сверхъестественном препарате, – который снимает
усталость, сонливость и способствует работоспособности. Я тогда ничего не
понимала относительно наркозависимости и наивно полагала, что бывают безобидные
наркотики. Взял эдак ночей пять не поспал, не поел, да еще похудел килограмм на
пять-семь, поработал вволю, и ничего, никаких последствий. Я сразу изъявила
желание это чудо-лекарство попробовать. Но среди моего окружения не было
амфетаминщиков и мне пришлось еще пару-тройку лет подождать, до первой встречи с
этим кайфом.
За эти годы я узнала, что фен не так безобиден и у меня появился некоторый
страх перед новым для меня средством. Поэтому Игорю Франкенштейну понадобилось
недели две, чтобы уболтать меня взять немного на пробу. И мы поехали к Леше
Розенфельду. Наконец состоялось мое знакомство с таинственным Лешей, о котором я
так много слышала от своих друзей-приятелей. Он для нашей творческой, и еще
только пробующей наркотики, а не торчащей на «системе» юношеской среды, был
образцом – настоящего наркомана. Мы, куря траву и хаш, вмазываясь ханкой и
пробуя кокнар, себя наркотами не считали. Мы могли, как мы думали, жить без
этого. «Хочу, торчу, хочу, не торчу!» – эти слова мы повторяли много лет, прежде
поняли, что «хочу, торчу, хочу, нет», не бывает, что мы попали. Что мы давно
наркозависимые.
Итак, мы приехали к Леше около 7 часов вечера. Звоним в дверь. Никто не
открываем. Стучим в окно, никто не открывает.
«Он спит», – говорит Игорь. «В 7 вечера?» – удивленно вопрошаю я. «А что, в
этом такого» – говорит Игорь. Больше я спорить не стала, спит, так спит. Значит
разбудим. Будили бы мы Лешу и его безымянную молчаливую жену (ее имя я так и не
запомнила), до завтрашнего дня, если бы не вернулась из магазина Лешина мама –
вдова композитора Розенфельда, с покупками, и не впустила бы нас в дом.
Мы вошли в темную заставленную хламом прихожую. Розенфельд-мама постучала в
Лешину комнату. К нам вышел заспанный помятый Леша. Я была потрясена, где же
красота, пусть и былая.
Леша был похож на тень. Эта тень пригласила нас в гостиную. Гостиная была
заставлена множеством вещей, посреди нее стоял большой старинный рояль, видимо
папин. Тогда я еще не знала, что в Германии и многих других странах
западноевропейского-протестанского культурного ареала, господствует минимализм в
дизайне жилища. Для меня заставленная мебелью, в особенности антикварной
комната, была нормой. Но даже при этом, я была потрясена обилию мебели и вещей в
Лешином доме. Потом выяснилось, что после смерти отца семья переехала из большой
квартиры в меньшую, и попыталась засунуть туда все свое имущество. Пройдет
несколько лет, и обе комнаты, коридор и кухня будут пустыми – продадут все,
кроме своеобразного мемориала – папиного рояля.
Мы присели на стулья с высокими спинками вокруг круглого обеденного стола.
Леша ушел в другую комнату, вернулся, держа весы и пакетик с феном. Взвесив
содержимое пакетика, высыпал часть в рюмочку. Залил кипяченой водой из чайника.
Растворив в воде, перебрал через выборку с намотанной на конец метлой. Измерил.
Оставил два кубу, остальное вылил обратно в рюмочку. Сначала вмазался Леша. Лицо
его преобразилось. Свет стало излучать его лицо, оно стало почти прекрасным. Я,
наконец, увидела следы былой красоты на еврейском хорошей лепки лице Леши
Розенфельда – красавчика, по словам Алика Анри и Неты. Следующим был Игорь
Франкенштейн. У него был свой шприц, аккуратно завернутый в не первой свежести
носовой платок. Одноразовых шприцов в СССР тогда еще не было. Вмазывались
стеклянными, и их было очень трудно достать. Но у меня тоже был свой баян. Пока
Игорь вмазывался своими кривыми дрожащими руками, я готовила ЛИЧНЫЙ баян. Теперь
видоизменился Игорь, таким я его никогда не видела. Он был счастлив. Он был в
раю. В то время, Леша ожил, начал прибирать на столе, начал готовить чай. Итак,
наступила моя очередь. Я попросила Лешу помочь мне. Тогда у меня еще не было
проблем с венами. Вмазка заняла долю секунды. Теперь в раю была я. От кайфа я
даже не смогла после укола зажать руку у сгиба локтя. Эта вмазка была несравнима
даже с первой моей вмазкой ханкой в 1976 году дома у Иры. Я была инициирована в
инъекционную опийную наркоманию Венечкой. За что, поверьте, ему только
благодарна. А теперь Леша инициировал меня в амфетамины. Долгожданный приход, о
котором я так много слышала поэтических наркоманских восхвалений, наступил. Я
была в РАЮ. Это был подлинный Paradise. «Если Бог есть» – подумала я – то это –
он, я его видела. Бог был свет, как в Каббале – мистическом иудейском учении. Я
видела яркий свет, свет струился, переливался, входил внутрь меня. Выходил из
меня. Леша и Игорь, сидящие неподалеку и смотревшие на меня во все глаза, были
древнегреческими богами. Они были прекрасны. Это был – КАЙФ. Это был – БОГ. Это
был – РАЙ. Первый амфетаминовый опыт оказался удачным. Очнувшись, я
почувствовала такой прилив свежих интеллектуальных и духовных сил, которого я не
испытывала еще никогда. Я начала говорить, говорила я, не переставая, мне
казалось, что я такая умная и интеллектуальная, как никто. Леша, который видел
меня первый раз в жизни, сказал: «Вот на метлу подсела, во метет!». Потом я
узнала, что мое поведение типично для неофитов. Инициационная практика
завершилась минут через сорок, когда внезапно я почувствовала потерю сил,
опустошение и депрессивные симптомы. «Еще – попросила я. «Деньги – сказал Леша –
вмазка десять рублей». Первая вмазка была угощением. Лет эдак через пятнадцать я
обнаружила для себя, что это отработанный прием мелких дилеров – сначала
угостить, затем продать, а затем уж и подсадить.
Десять рублей у меня были, Игорь меня предупредил. Я дала деньги, после чего
– мы все трое вмазались еще по разу. Второй раз мне уже не доставил такого
удовольствия, только снял негативные явления. После вмазки мы попрощались с
Лешей, и ушли с Игорем восвояси. Гуляли мы с ним по улицам любимого города
часов, наверное, пять. Слава Богу, было лето, хорошая теплая погода и белые
ночи. Домой я пришла усталая и опустошенная. Заснуть я не смогла. Пришлось
принять что-то из соников, Игорь предусмотрительно дал мне парочку. После приема
снотворных прошло еще часа полтора, наконец, я абсолютно измученная заснула
каким-то дурным сном. Утром проснулась часов в 12, как обычно, совершенно
разбитая, неспособная ни на какие действия. Вчерашний день вспоминался как
героический подвиг – прошли мы километров 15-20 без остановки.
Окончательно просунулась я, одна, в постели Майк. Майк уже уехала на работу в
Ораниенбург в Заксенхаузен. Из кухни доносились голоса. Слава Богу, Майк
предупредила меня, что сдает одну комнату студентке из Западной Германии. А у
той ночевал гость, приехавший на несколько дней из другого города навестить
подругу. Настроение было хорошее. Я вышла на кухню.
- Hallo, Ich bin Olga.
- Hallo, Ich bin Stefanie
- Hallo, Ich bin Ulrich
На этом мой нормальный немецкий закончился, говорить на моем тарабарском
языке, как азербайджанцы на русском на питерских рынках, я не хотела. Спросила
парочку, говорят ли тебя по-английски. Они говорили, мы начали светскую беседу.
Девушка на правах «хозяйки», каково мне было, в квартире моей любимой Майк, где
я еще недавно чувствовала себя хозяйкой, угостила меня Milk Coffee с
бутербродами. Позавтракав, и дождавшись обещанного звонка от Майк, я уехала в
Фридрихсхайн к Зильке, туда, где я официально остановилась. Без Майк в ее
квартире, пахнувшей не мною, и ни Майк, ни нашей с ней любовью, но чужими
молодыми людьми, мне делать было нечего.
Новая жизнь
Я ехала домой, в новом радостном настроении. Настроение было необычным, не
только хорошим, но отличным, так как у меня ничего, впервые за пять месяцев не
болело.
Я ехала и напевала: «Я ехала домой…». Лучше бы я не пела. Мой учитель по
пению в 55-ой школе Лев Борисович говорил мне: «Оля, пожалуйста, не пой, я тебе
четверку все равно поставлю». Я обижалась, не то чтобы я хотела пятерку, нет, я
хотела петь, а петь мне не давали. Только классе в 7-ом я, наконец, поняла, то,
что Бог обделил меня слухом. Петь я перестала, но по-прежнему очень любила. А
тут разошлась – русско-цыганские романсы, да на неметчине. Жить стало веселее.
Итак, я ехала домой, светило февральское солнце, люди улыбались, я
чувствовала себя непринужденно и счастливо.
Наконец я доехала до Фридрисхайна. Но после Шарлоттенбурга и дома Майк,
Фридрисхайн меня не обрадовал, квартира Зильке была уютная, но холодная. Уголь в
печи дотлевал, от холода кошки, кролики, крысы и другая живность, водившаяся в
большом количестве у Зильке, калачиком свернулись в своих «кроватках».
Где же я испытывала еще такие же странные чувства? Что-то мне эта ситуация
напоминала. Только что, где когда? Я терялась в догадках. Наконец, вспомнила.
Инициация джефом
Было это в Питере, конечно же, в Питере, в моем родном городе, году эдак в
85-86. Тогда множество опиушников резко подсели на джеф. Я, как все,
присоединилась к этим безумцам. Проторчала я около двух месяцев, сожгла все свои
итак от природы плохие вены, чуть не сошла с ума, во всяком случае, с катушек
таки сорвалась, и, Слава Богу, отошла от этой паганной марцифали. Слава Богу – в
данном случае не идиома. А в прямом смысле. Именно тогда я в Бога и уверовала.
Крестилась по православному обряду и соскочила с мерзопакостного джефа. Но это
отдельная история. А пока я step by step , как говорят англичане да америкосы, в
эту мульку инициировалась. Пока я была прозелиткой, новообращенной джефоманкой.
После первой моей вмазки амфетаминами – феномином – у Леши Розенфельда,
прошло лет пять. За это время вмазывалась я амфетаминами и метамфетаминами
считанное количество раз и с людьми интеллигентными, людьми, как водится, моего
круга. Не то, чтобы амфетамины мне не нравились, нет, просто отходняк был такой
тяжелый, что после него еще долго не хотелось такого кайфа. На мой взгляд, кайф
этот не стоил таких отходняков.
Феномином один раз я вмазывалась с Лешей Розенфельдом и Игорем
Франкенштейном, пару раз с Игорем и Колей, и с Леней и его женой – оба студенты
нашего Театрального института, теперь уже Академии. С феном, по-моему, все. А
марцифалью я начала двигаться со всеми подряд, с Игорем Франкенштейном. Он
раствор приготовил очень плохо (тогда еще химики не высчитали оптимальные
условия реакции), и он мне не понравился, затем с Мишей Зассерманом – оба они
вскоре умерли от джефа, и, наконец, с Сережей – давним моим приятелем, который
бросил в Репино Мишу Зассермана с опухшими от севших на джефе почках ногами, на
произвол судьбы посреди улицы умирать. Какой-то сердобольный человек отвез Мишу
в Областную Сестрорецкую больницу там он и умер, так и не доехав до долгожданной
Америки, куда за несколько лет до этого уехала его мама и умерла от рака. Миша
был отказник, власти его даже не пустили на похороны к родной матушке. Игорь
умер на глазах своего друга Леши , на марцифальном приходе от диабетического
приступа. Леша сделал все возможное. Но скорую помощь, как и Сережа, в случае с
Мишей, вызвать побоялся, слишком был велик страх сесть в тюрьму за
преднамеренное убийство.
Распробовала я прелесть джефа с Сережей. Было это так.
Однажды пришла я в мастерскую к бывшей его жене Лене, известной больше как
Киди. Прозвали ее так давно в начале семидесятых на Казани, так как была она
маленькая и хрупкая как ребенок, малышка, что по-английски «kid». К середине
восьмидесятых Киди, наконец, с большим опоздание по срокам, дважды или трижды
была в академке, закончила, ЛИСИ архитектурный факультет и начала работать
художником на вольных хлебах. Родители ее были художники-керамисты, члены Союза
художников и подогнали ей мастерскую, там она и жила. Сережа, с которым они
поженились лет в восемнадцать по глупости, был тогда молодым человеком без
образования и перспектив из простой многодетной семьи. Мать, правда, была
учительницей, а отец настоящим работягой на заводе, а Сережа нигде не работал и
не учился. Но очень любил рок музыку и хорошо в ней разбирался, при этом он был
красавчиком, похожим иконописного Христа с православных икон. Поэтому почти все
девушки были в него влюблены. Но удостоил он чести некрасивую, в круглых смешных
очках, но интеллигентную Лену. Лена, тогда еще Лена, была девушкой из приличной
с аристократическими корнями семьи. Ее родители были нелюдимы, почти никого в
доме, в своей огромной, роскошной квартире на Фонтанке не принимали, и Сережу
как родственника тоже не приняли. То есть у них жить было невозможно. У
Сережиных родителей тоже. Сережа жил на улице Халтурина в старом восемнадцатого
или начала девятнадцатого века доме, на первом этаже, по старым понятиям это
была дворницкая, в двух комнатах ютилась семья из шести человек – отец, мать и
четверо сыновей. Два из них торчали, Сережа и его младший брат Андрей. Итак,
пробовали Киди и Сережа – молодые супруги, жить и там и сям, но нигде их
совместная семейная жизнь не складывалась. Поэтому бездомная парочка сходилась,
они расходилась, по долгу жили они раздельно, встречались днем, а по ночам
расходились, каждый шел ночевать к себе домой. На тот момент, о котором я,
рассказываю, они опять сошлись, и жили вместе в Кидиной мастерской недалеко от
Театральной площади. Теперь квартирный вопрос был решен, и они решили, вновь уже
разведясь, попробовать пожить вместе. Бывшего любовника Киди Сашу Планта
посадили. Киди осталась одна, быть одна она не умела. И вот не нашла ничего
лучше, чей сойтись со своим первым мужчиной – Сережей.
Меня, как обычно, подламывало. И я, предварительно созвонившись, пришла к
Киди за кокнаром. Киди взяв деньги, ушла неподалеку за стаканом, чтобы,
вернувшись вместе приготовить раствор ангидридовки, это была моя плата за
помощь. Киди ушла минут на двадцать-двадцать пять, необдуманно оставив меня
вдвоем с Сережей. Не успела она захлопнуть дверь, как Сережа начал готовиться к
джефовой вмазке. Вынул из первого ящика письменного стола машину, как будто бы
из мультфильма о добром Докторе Айболите, очень большую, кубов эдак двадцать, а
мы, как правило, пользовались двушками или пяти-кубовыми шприцами. Разложил на
огромном, подстать машине носовом платке, марганцовку и уксус, вымыл рюмочку,
положил вату. И начал священнодействовать. Это было настоящий ритуал. Сережа
колдовал над раствором. Тогда я впервые увидела такое бережное, не просто
аккуратное, а именно бережное отношение к приготовлению наркотического зелья.
Вскоре, подсев на джеф, я не раз и не два, становилась свидетельницей и
участницей подобного сакрального ритуала. Но пока, докуривая папиросу, я с
удивлением смотрела на священнодействующего Сережу.
Наконец процесс был закончен, Сережа немножко торопился, хотел успеть, пока
не вернулась домой Киди, она запрещала ему двигаться марцифалью. Сережа набрал
себе полную машину раствора, прокомментировав это, словами. Которые потом я
слышала неоднократно, что джеф любит воду, и вмазался. Едва успев вынуть из вены
машину, руку перетянуть уже попросил меня, свалился на диван приходоваться.
Приход был сильным и долгим, Сережа попросил меня присесть рядом, взял меня за
руку, это было для меня внове. С феном такого, а тем более с ханкой такого не
делали. Немножко поприходовавшись, как я впоследствии поняла не до конца из-за
спешки в страхе перед грозной Киди, встал. Остатки прихода он ловил уже со мной
вместе. Сережа промыл машину и набрал мне десятку. Вмазал и меня, я прилегла,
Сережа прикорнул рядом. Эти мгновенья, так же как первый в жизни укол (это был
шприц с собранной мною с моими тогдашними друзьями-приятелями Веней и Ирой
ханкой, в 1976 году), как и инициация в амфетамины – фен с Лешей Розенфельдом и
Игорем Франкенштейном, запомнились мне на всю жизнь. Всю жизнь я хотела
повторить эти марцефалевые ощущения, но, увы, это было уже невозможно. Каждый
раз, как в первый раз не бывает, на этом феномене и построен наркотический
синдром, только кажется, что получишь идентичное первому, впечатление и
ощущение, но нет, не тут-то было.
Лежа рядом со мной, Сережа был нежен и предупредителен – он гладил меня, тем
самым, о чем я узнала через пару-тройку месяцев, продлевал мне кайфовый приход.
Не успели мы встать с дивана, и убрать следы джефового преступления. Как пришла
Киди со стаканом кокнара. Теперь начался следующий процесс – готовки из соломы
ангидридовки. Он занял минут сорок пять, час, за это время кайф от джефа
абсолютно прошел, хотелось его повторить, но этот синдром амфетаминов,
метамфетаминов и кокаина, я уже знала, поэтому, наоборот, надеялась
ангидридовкой снять джефовый отходняк. Вмазавшись обычной дозой, я почувствовала
минутное облегчения, (подламывать от герыча меня уже перестала от марцифали,
точнее джефовый кайф вытеснил ломки) но не более того. Отходняк нарастал в
полный рост. Буквально с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже,
депрессивнее и депрессивнее. Киди не могла понять, что со мной твориться,
наконец, заподозрив благодаря большим, не садившимся от ангидридовки зрачкам,
неладное, спросила, не трескались ли мы с Сережей марцифалью. Я лживо спросила:
«А что это такое?». Поняв, что от меня ничего не добьешься, начала колоть
Сережу. Тот тоже молчал, как партизан. В результате подозрительная Лена-Киди
решила, что ей показалось.
Почему я вспомнила первую УДАВШАЮСЯ вмазку джефом именно в Фридрисхайне,
именно в Восточном Берлине, в далекой от России стране Германии, в квартире у
Зильке, наполненной холодом крысами, кроликами и морскими свинками? Потому, что
именно с Сережей – экс-мужем одной из любимых моих подруг по Казани Лены, по
кличке Киди, я распробовала подлинный метамфетаминновый кайф, и эта история
привела меня к серии последующих, одна из которых своей атмосферой – сыростью,
холодом и крысами, только не домашними, а дикими, напомнила мне атмосферу
квартиры Зильки.
Крысы. Кролики и морские свинки
Крысы, кролики и морские свинки – замечательные, более того, очаровательные
животные.
Впервые с крысами я познакомилась в 1970 году в городе Касимове. Там
съемочная группа старейшего российского режиссера детского кино Николая
Ивановича Лебедева снимала фильм «Найди меня, Леня» по повести В.Осеевой
«Динка». Снимали на реке Оке, реку Волгу. Жила группа на деборкатере – в
плавучей гостинице, а также в средней школе, закрытой на летние каникулы, и еще
где-то, не помню. Мы с мамой жили в средней Касимовской школе, в учительской.
Учительская была квадратов 9, не больше. Однажды ночью я проснулась от какого-то
странного шуршания и маминого дикого крика. Это была крыса, величиной с
откормленную лисицу. Я не испугалась, даже в 10 лет я была мужественной
девочкой, а, напротив, обрадовалась живности, и начала, к ужасу своей матушки,
гладить дикую голодную и с большой вероятностью инфицированною гепатитом
грызуншу. Мама с криком отшвырнула меня от ухмыляющейся крысы, и вместе со мной
со скоростью спринтера ринулась из учительской в школьный коридор. Стоит ли
рассказывать, что на следующий день в школу пришла эпидстанция, всех
детей-актеров временно эвакуировали на деборкатор, и возвратили в школу лишь по
истечении срока санатаризации.
Первая встреча с крысами, а их было несколько, не только та, прыгающая по
моей кроватке с наглой ухмылкой, но еще несколько менее смелых и
привилегированных. Та видимо была аристократкой, Королева-крыса. Я была
очарованна мужеством животных, не испугавшихся человека – царя природы, быть
может, просто они этой информацией не владели, так как не читали ни Библии, ни
Дарвина, ибо были они необразованными, бездомными крысами, а не рафинированными,
домашними, подобно Зилькиным, встреченным мной в Берлине 95 года.
Но атмосфера в Зилькиной квартире напомнила мне не эту ситуацию в городке
Касимове. а другую, в городке Ленинграде, в моем родном Питере.
Эфедроновый притон во дворе бывшего Костела на Невском или экс-катран
Это было в эфедриновом притоне во дворе, где располагался бывшей Костел и
Управление культуры города Ленинграда, в некогда замечательном доме
восемнадцатого века, не помню, чьей постройки. Об этом притоне я уже слышала от
Сережи К. в тот памятный джефовой вмазкой вечер в мастерской у Киди, а также от
Володи, очаровательного молодого человека, только что освободившегося с зоны
после шестилетнего заключения, и молниеносно подсевшего на модную в то время
марцифаль. О нем и о его брате Ленечке я еще расскажу. Слышала я от Сережи и от
Володи следующую сагу: жил-был некий господин – фарцовщик, валютчик и игрок. Был
женат и имел юную дочь Леру. В доме у него работал дено и нощно подпольный
катран, где собирались каталы, т. е. картежники, и другие игроки разных азартных
игровых цехов. Стекались в катран на Невском валютчики и цеховики со всех мест
необъятного Советского Союза. Существовал этот катран не много не мало
пятнадцать лет, но в один прекрасный день, по неизвестным мне и моим
марцифальным нарративам, причинам, был закрыт. Папа – содержатель катрана, был
посажен в тюрьму на большой срок. Имущество описали. Его никогда не работавшая
жена, привыкшая к беспечной беззаботной жизни за могущей спиной
мужа-миллионщика, начала продавать спрятанные от всевидящей милиции остатки
бриллиантов, остатки картин и остатки антиквариата. Между тем дочка Лерочка,
немного подрастя, благодаря хорошим папиным друзьям-приятелям подсела на
марцифалевую иглу. Постепенно бриллианты мамочки иссякали, со стен снимались
недоэкспроприированные живописные полотна XIX века, не стало полусломанного
Павловского ампира, экс-катран опустел, постепенно превратившись в
алкогольно-марцифалевый притон. Все пять или шесть комнат этой роскошной
квартиры – анфилада из комнат, были абсолютно пусты. Мебели почти не было –
только несколько старых проношенных заляпанных красным вином, кровью и
блевотиной диванов, вероятно принесенных эфедринщиками с питерских помоек для
своего же кайфа, чтобы не приходоваться на полу, парочка раскладушек, а так –
голые стены, со свисавшими от сырости обоями, и бегающие бесхозные голодные
крысы. Таким я встретила бывший роскошный катран, а теперь дешевый наркотический
притон, при первом его посещении одной из петербургских – холодных и снежных
январских ночей. Эта ночь, была такая же черная с белым снегом на проезжей части
и на тротуаре, как и другие питерские зимние ночи, такая же бесконечно долгая и
промозглая. Отличалась она от подобных питерских зимних ночей, лишь тем, что
провела я ее впервые в жизни в нескончаемым джефовом марафоне.
Как же оказалась я в этом экс-катране, на тот момент уже марцифалевом
притоне? Причем, пришла туда с абсолютно чужими людьми, а не с Сережей или
Володей. Для того чтобы объяснить это, необходима небольшая экспозиция в мою
марцифалевую сагу.
К тому достопамятному вечеру я уже вмазалась марцифалью пару-тройку
очаровательных раз, эксперименты с Игорем Франкенштейном и случайными знакомцами
«дилером» из Дагестана и жадноватым питерским мальчонкой, я не считаю. Питерский
паренек из простой бедной семьи с алкоголицей мамой, познакомился на Московском
вокзале с аульским аварцем, поселил у себя в коммуналке на углу Восстания и
Некрасова, этого бедного молодого человека из многодетной деревенской семьи,
купившегося на рассказы детских друзей, таких же простых сельчан, как и он, о
сногсшибательных ценах на эфедрин в Ленинграде. Он собрал нехитрые вещички, за
бесценок купил у работяг фармзавода города Нальчика, 3 кило эфедрина, одолжил
деньги на билет в плацкартном вагоне и приехал не весть куда, ни весть к кому с
3 кило драгоценного лекарства.
За года полтора до меня подсел на марцифаль мой сосед и детский поклонник
Леша (тоже покойник). Передала и контакт с Дагестанскими «дилером» и его
питерским покровителем. Когда Леша освободился после очередного длительно
заключения, а начинал он еще на малолетки, я его познакомила его с рядом людей,
среди них был очень приличный человек Илюша Блинкин, приятель Миши Зассермана.
Миша к тому времени уже погиб от севших, вследствие злоупотребления марцифалью,
почек. С рождения Илюша имел порок сердца. Он любил кайфовать, как кайфовали,
как правило, с алкоголем богатые деловые люди, баня, карты, девочки. Но Илюша
был равнодушен к спиртным напиткам, не жаловал и секс, а любил кайфонуть: курил
дурь, пожалуй, и все, ханкой врезывался. Насколько я помню, изредка. Но на
марцифаль подсел. Она взяла его, очаровала, как заколдовывала, многих. Не знаю
почему, но не обошла она своей губительной силой практически никого из моих
друзей-знакомых. Даже тех, кто не кайфовал никогда, и не пил никогда. Вот такая
мистическая дрянь эта марцифаль.
Подробностей не помню. Помню лишь, что со страшной силой хотела взять я
джефа. Дырка на Невском прикрылась. Других возможностей у меня, кроме Сережи и
Володи не было, а они оба после марцифалевого недельного, каждый своего,
марафона, беспробудно спали в своих кроватках, и просыпаться не хотели, а
говорили, подожди до завтра, как будто бы не понимали. Что такое «ХОТЕТЬ
МАРЦИФАЛЬ!». Не помню, как, но оказалась я на углу Невского и канала Грибоедова
в незнакомой мне компании простолюдинов, думаю, что бывших алкашей, ожидавшей на
стрелке эфедрин по 10 рублей 1 г., не весовой, конечно, а «продажный» и.
вероятно, бодяженный. Ждали мы ждали, никто на стрелку не являлся, а подходили
все наркоты, хотевшие тоже эфедрина взять. Вечерело. Наступила ночь. Шел снег.
Морозец прошибал все суставы. Но мы не сдавались и не расходились по домам, а
гуляли в ожидании райского кайфа. Вдруг кто-то сказал, что долгожданный эфедрин
привезли к Лере. И пошли мы всей компанией, мало или вообще не знакомые люди, и
завались в этот самый марцифалевый притон, экс-катран на Невском.
Приняли нас не сразу, сначала кто-то собрал со всех деньги и зашел один,
затем из-за какой-то задержки с развесом и расфасовкой пригласили всех нас, и
любезно разрешили приготовить и вмазаться прямо там, не по доброте душевной,
нет, пригласили с надеждой, что мы угостим кайфом. Конечно, мы не обманули
Лерины и ее компании – таких же случайных наркотов, как и мы, ожидания. Пока мы
не прошмыгали, все, что купили, то не ушли.
У меня, как обычно, (с тех пор как я узнала о смертоносном СПИДЕ) был свой
чудом, приобретенный десятишник и несколько выборок. Я разложила все на носовом
платочке и принялась за дело. Кто-то рядом, предложил мне помощь – приготовить
«атомный», «сексуальный» растворчик. От «сексуального» я отказалась, а вот
атомный заказала. Через минут десять раствор был готов, выбран в шприц. Меня
предложили упороть, я без раздумий согласилась. В то время, еще не понимая, что
не стоит, двигаться с кем попало. Забыв, рубай знаменитого средневекового поэта
персидского культурного ареала Омара Хаяма:
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем, что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Я же в этот вечер, ночь и следующее утро торчала, с кем попало. Мало того,
что торчала, с кем попало, кто попало, еще и готовил мистический раствор джеф. А
это уж совсем не надо было позволять. Потому что подобно соме/хаоме, которая по
одной из версий делалась из эфедры, эфедрон был сакральным кайфом. Вмазавшись
меня первый раз, я прилегла, вдруг чувствую, кто-то положил руку на мою грудь, я
открыла глаза, какой-то незнакомым низкорослый по внешнему виду спекулянт и
фарцовщик, сегодня мы бы назвали его «бизнесмен» гладил меня уже по ногам.
Охуевшая я, встала и попросила его не ломать мне приход. А он просто выкрадывал,
о краже прихода я узнала от бывалых марцифальщиков позже, у меня марцифальные
волны. С грехом пополам я приходнулась, приход поразил свой длительность,
действительно обещание было сдержано – оглушил своей атомностью, встала с
матраса, и решила завернуть свои вмазочные причиндалы. Смотрю, а машины нет,
нашла я ее в руках у какого-то неизвестного мне дурика, а две иглы так и исчезли
в неизвестном направлении. Хорошо, что к тому времени, ни гепатит С, ни СПИД еще
не достигли наркотической коммьюните, а то бы после подобных коллективных
вмазок, все бы болели этими болезнями. Приходнувшись, я «присела на метлу», т.
е. стала болтать без умолку, чего я только не рассказала своим случайным
знакомцам, историю кино 20-х годов, постановки фэксов, в театре и кино,
концепцию своей кандидатской диссертации, которую на тот момент писала. Мои
собеседники от меня не отставали, они мне тоже рассказали всю свою жизнь, о
неудачных женитьбах, о суках тещах, и т. д. Вдруг метелочное погонялово внезапно
прекратилось, как по команде, все замолчали, тишину прервал крик какой-то
раскрашенной по проститутские девицы: «Ой, мамочка! Крыса! Крыса! Смотрите,
Володя!». Она схватила мужа Володю за руку, тот в этот момент приходовался, ему
было не до крысы и не до пугливой истеричной женушки. Но, как мужественный
человек, настоящие мужчина, неторопливо встал с прогнувшегося дивана, и пришел
на помощь жене. К нам подбежала Лера, и стала всех успокаивать (хотя никто,
кроме этой телки и не волновался) говоря, что крыса абсолютно безобидная и
ручная. Крыса испугалась больше Володиной жены, и, почувствовав какой-то
звериной, именно звериной интуицией опасность, прибежали на подмогу сердобольные
товарки, среди них королева-крыса, ее было видно сразу по стати и надменному
взгляду на окружающих. Она как две капли воды напоминала ту самую впервые
увиденную мною в жизни, а не на картинке, королеву-крысу из Касимова. Может она,
через пятнадцать лет, переехала с берегов Оки на брега Невы? Говорят, в холодных
странах дольше живут.
Пришла я в гости в бывший катран, а ныне марцифальный притон лишь на
пять-десять минут, всего лишь купить грамм и на одну вмазку, а застряла до 7
часов утра. Пришла я в гости, к непутевой Лере – из-за усталости от непомерного
кайфа с трудом выполняющий несложную работу барыги – дочке репрессированного
бизнесмена (во времена перестройки его наградили бы орденом «герой
капиталистического труда» и сделали бы министром кабинета Бориса Ельцина), и к
ее еще более непутевой маме, которая весь вечер и всю ночь, как, наверное, и
предыдущие, и последующие вечера и ночи, провалялась пьяная на одном из
прогнувшихся диванчиков. Кто-то периодически подносил ее вино или водку, точно
не помню, она немного болтала со случайными благодетелями, едва признавая в них
мужниных или Лериных знакомцев, и зарубалась опять. Она была когда-то очень
хороша собой эта женщина – жена репрессированного содержателя подпольного
игорного дома, со следами удивительной, именно русской красоты, на лице, но, не
выдержав искушения роскошью и испытания трудностями, на глазах увядала и
спивалась, молниеносно скоропалительно, как могут увядать и спиваться лишь
женщины.
Утром вышла я со случайными попутчиками, подобранными в притоне, на улицу –
красота, снег лежит, чистый, представьте себе чистый. Было дело до Чернобыля.
Русский музей, Малый оперный театр – все блистало классической красотой и
выдержанностью линий. Это был мой Петербург. Но вместо того, чтобы ехать домой
на Петроградку, я поехала со своими случайными марцифальными друзьями продолжать
джефовый марофон в Веселый поселок. Один из них – горский еврей из Азербайджана
(впервые кроме эстрадного актера Бен Бенецианова, увиденный мною, сколько их
горских, будет еще в эмиграциии в Берлине), ожидающий в между Питером и Москвой
разрешения на выезд к родителям в Израиль, снимал в Веселом поселке квартиру.
Мои случайные марцифальные друзья – это горский еврей и еще один деловой,
роскошно одетый мужик, по-моему, валютчик, взяли несколько грамм эфедрина, и мы
потому могли беспрепятственно кайфовать до вечера следующего дня. Петербург
сверкал своей неземной ампирной красотой. А мы три совершенно разных человека –
с разным прошлым, будущим и настоящим, которые потом уже никогда не встретятся,
повязанные лишь кайфом, стрельнули тачку и уехали из исторического центра, от
этой божественной красоты на окраину, в новостройки – в Веселый поселок.
Мой Петербург. Майк и Петербург
Когда мы гуляли с Майк по этим местам, я рассказывала ей, как могла на своем
ломанном небогатом, но быстром и свободном английском эти невесело-веселые,
наполненные черным юмором, истории.
Находясь у Зильке в Фридрисхайне я вспоминала не только этих крыс из
марцифалевого притона, экс-катрана на Невском во дворе Костела и Управления
культуры, но и свой нарратив об этом, рассказавыемый мной снежной зимой 93 года
Майк во время нашей пешей прогулки по Невскому.
А сейчас в квартире Зильке я решила написать Майк письмо. По дороге домой
купила красивую безвкусную пошленькую с немецкими ангелочками, оставшуся с
Рождества в берлинских книжных лавках, и потому уцененную донельзя – с 5 дейтче
марок до 50 пффенингов. Я ее купила про запас, и теперь. Через пару часов решила
использовать, не харнить же до следующего Рождества, не извсетно, доживу ли еще.
Я же не немка, бюргерша какая-то покупающая вещи на распродаже в прок и на
вырост. Майк любила безвкусицу и называла ее «китч». На английском, на котором
мы говорили, бесвкусица и пошлость обозначается одним словом «testless», что
буквально обозначает именно «безвкусица», но не «китч», конечно. Так вот, я
купила по терминологии Майк китчевую открыточку, и решила тут же ее
использовать, написать письмо, любившей китч, Майк. На своем ломанном, еще более
ломанном чем разговорный, письменном английском, я написала пару предложений,
насколько хватила терпения, о нашей встрече, о нашей любви, о нашем вечном,
бесконечном своместном будущем. Написав пошленкий текст на пошленькой открытке,
я успокоилась, и принялась играть с крысами, мышами, морскими свинками, и другой
живностью.Они вовсе не хотели играть со мной, аспокойно спали в своих клетках,
на своих кукольных куроватказх. Но мне хотелось общения. Майк была на работе,
Зильке была на работе, Наташа была в библиотеке, Андреас был неизвестно где и т.
д. Я скучала, хотела поделиться своим счастья снова быть с Майк с окружающим
миром, кроме крыс, мышей, морских свинок, и кошек мне было поделиться не с кем.
Я выбрала, по доброй традиции, крыс. С ними у меня уже был опыт общения. Кошек я
не понимала, они мне отвечали взаимностью, собак в доме Зильке не было, мышки
казались мне «уцененными крысами», «крысами для бедных», а я любила все для
богатых, морских свинок я не жаловала, они представлялись мне глупыми,
безмозглыми животными. Я со свойственным мне «насилием», разбудила одну из крыс,
и принялась рассказывать ей историю нашей с Майк любви. Потом это мое «насилие»,
ибо мое желание «здесь и сейчас», психологами обозначаемое как «джанки синдром»,
будет принято радикальными феминистками, подружками Майк, как «насилие».
Не знали они счастливы!!!, что такое настоящее подлинное насилие, насилие в
России, насилие в Америке, двух насильнических державах. Не знали, что такое
насилие в наркотическом безумии, не знали, они счастливицы. Что такое крэковые
притоны в зловонном сердце Нью-Йорке, и что такое марцифалевые притоны в вонючей
душе Питере. Расскажу я им, быть может, сейчас прочтут, все эти Магиды, Барбары,
Сюзанны и прочие немчарки.
Эфедриновые истории или к вопросу о насилии
Позволю себе обширную цитату из своей книги о наркотиках «Тихие обольстители»
или «необузданные демоны». Наркотики: история, общество, культура».
«В середине 70-х годов после ужесточения статьи УК о хранении,
распространении, хищении и т. д. наркотиков, медицинские амфетамины почти
исчезли с наркорынка. На смену пришел синтезированный в подпольных лабораториях
феномин. В начале 80-х годов стал исчезать и он, тогда советские наркоманы
придумали домашним способом перегонять эфедрин гидрохлорид в метамфетамин. В то
время, эфедрин гидрохлорид можно было купить очень просто: эфедрин в ампулах для
астматиков и капли от насморка – беспрепятственно продавались в аптеках в
безрецептурном отделе. Стоило все это копейки, остальные необходимые для
химической реакции ингредиенты можно было купить в аптеке и универсаме: калий
перманганат (в быту марганцовка) и уксус или уксусная кислота.
Джеф или марцифаль, или мулька, так назвали производное из эфедрина его
потребители. Джеф стал истино демократичным наркотиком, который употребляли
совершенно различные слои населения. Среди них работяги – шоферы, столяры,
металлисты, деклассированные – бомжи и бичи, заключенные тюрем и
исправительно-трудовых колоний, студенты художественных институтов – актеры,
режиссеры, историки театра и искусства, художники, математики, физики,
криминалы, в особенности карманные воры, валютные проститутки. «Пересели» на
джеф и многие бывшие опиушники и бывшие запойные пьяницы. Джеф был доступен и
дешев.
Между тем, наркоманы других «цехов» марцифальщиков презирали, а марцифаль
кайфом не считали. С их точки зрения, джефом можно было побаловаться: провести
бессонную ночь с девочками и мальчиками, «приколоться» на сексе, но употреблять
регулярно, да еще с отбросами общества…
Но, что-то привлекала людей к марцифали, и не только ее дешевизна и
доступность. Метамфетамин, который получался вследствие экспериментов над
эфедрином гидрохлоридом, расширял сознание, обострял память и интеллектуальные
способности, открывал чувственность, раскрепощал и разнообразил сексуальность.
Кроме того, обеспечивал роскошное время препровождение: вечный кайф, бессонный
марафон, новые и интересные знакомства, свободный: гомосексуальный и групповой
секс и т. д. Никуда не выходя, а тем, более не выезжая, человек познавал все,
что хотел и о чем мечтал: западный мир с интеллектуальной и прагматичной
философией, и свободной любовь, таинственный восточный мир с оккультизмом и
магией, а также другие миры и цивилизации. Одним словом, человек проникал во
Вселенную. Он растворялся в ней. Все зависело от того, насколько у тебя хватает
воображения, да и физического и психического здоровья.
Властные и аптечные структуры вскоре стали понимать, что-то с эфедрином
творится неладное, в аптеках стали отказывать в «отоварке» особенно «стремным»,
темным личностям, милиция, как могла, начала бороться с марцифальщиками. Эфедрин
еще долгое время наркотиком не считался, как наркотик квалифицировался лишь
произведенный из него метамфетамин, но милиция: специальные отделы по борьбе с
наркотиками и вездесущее КГБ объявили охоту за бедными марцифальщиками. Сначала
капли от насморка, содержащие эфедрин гидрохлорид, перевели из отела ручной
продажи в рецептурный. Затем, эти лекарства и вовсе исчезли из продажи.
Пострадали, как всегда, не те, на кого обрушила свой гнев государственная
машина, пострадали невиновные – астматики. Наркоманы же стали подделывать
рецепты, затем перешли на «Солутан» – лекарство из дружественной на то время
Чехословакии, из которого долго и муторно надо было выщелачивать эфедрин.
Наживаться на сложно ситуации стали дилеры: рыночные «азеры» и цыгане, да и
барыги из местных, они начали подпольную торговлю эфедрином гидрохлоридом.
Наркоманы стали злиться, борзеть. Никогда не забуду три случая, произошедших в
Питере восьмидесятых-девяностых годов.
Первый случай, был первой ласточкой, своего рода предупреждением. В самом
начале 80-х, времени повального увлечения марцифалью в Санкт-Петербурге, достать
эфедрин через аптеку, даже по поддельным рецептам, стало проблематично. В городе
несколько барыг приторговывали кристаллическим эфедрином гидрохлоридом. Один из
них был некто – Сокол. Простой, малообразованный человек с Лиговской стороны.
Его жена была к тому времени на сносях. В один прекрасный день, как рассказывает
городская легенда, несколько человек, среди которых был приятель и
сомарцифальщик Сокола, некто – Виссарионыч, ворвались в квартиру Сокола.
Последнего не было дома, открыла его беременная жена. У нее потребовали джеф,
которого по сведениям налетчиков было в «хате» несколько килограммов. Жена
ответила, что не знает, где спрятан эфедрин, тогда ее начали пытать: кололи в
живот спицами. Она так и не призналась, где эфедрин, м. б. и не знала. В
результате этого налета умерла в мучениях беременная молодая женщина.
Второй случай произошел в конце 80-х-начале 90-х. Другая молодая женщина –
мать малолетнего ребенка была расчленена на куски, озверевшими после
марцифального многонедельного марафона «друзьями», с ее, отрезанных пальцев были
сняты антикварные брильянтовые кольца, с отрезанных ушей – брильянтовые
старинные серьги. Затем ее останки сложили в бочку и спрятали на свалке.
Третий случай произошел приблизительно в тоже время, что и второй: тогда уж
вовсю варили эфедрин из «Солутана». Бывший инженер, средних лет, бросивший
опостылевшую однообразную службу в бюро, продал машину и плотно «подсел» на
марцифаль. Когда деньги закончились: он начал заниматься тем, что варил из
«Солутана» «граммы» и «банковал» ими, а в свободное от барыжнечества время
подсаживал на джеф, а затем и соблазнял молоденьких симпатичных девушек.
Наркоманы, из кавказских, покупавшие у него кайф, решили его проучить. Жил он с
одинокой престарелой интеллигентной матерью на первом этаже дома хрущевской
застройки. Они ворвались в «хату», «обнесли» ее, и «до кучи» изнасиловали его
семидесятипятилетнюю мать.
Любые нелегальные наркотики связаны с криминалом, есть даже понятие в
психологии и социальной педагогике о криминальном поведении, вызванном
необходимостью добывать наркотики. Опийные наркоманы воруют, даже грабят, но
убивать, пытать, ради наркотиков?
Почему под марцифалью происходили такие страшные вещи, которые не могли даже
присниться в кошмарном сне опийному наркоману, не говоря уже, о безобидных
гашишистах? Люди, употребляющие амфетамины употребляют их запойно, те, о ком я
рассказала, находились в марцифалевом марафоне – бессонные дни и ночи,
отсутствие еды, непрерывный секс. При этом истощаются физические и психические
силы, «съезжает крыша», люди уже не понимают, что творят, идут на поводу у
«заморочек». Постоянный прием амфетаминов, в особенности «амфетаминов для
бедных» – марцифали, приводит к стимуляторному психозу. Естественным
последствием постоянного приема амфетаминов является сумасшествие. Сумасшествие
в среде стимуляторных наркозависимых является нормой.
Марцифаль, и более современный вариант «домашних», самодельных амфетаминов –
винт, аналог первитина, похожи по своему психостимулирующему, а также
растлевающему и беспредельному эффекту на крэк. Марцифаль и винт это – русский
крэк. Кроме того, многие побочные эффекты – «побочки», среди них «заморочки»,
возникают вследствие ошибок изготовителей наркотика, не говоря уже о
несознательных передозировках, которые неизбежны при домашнем, самодеятельном
производстве вещества. Неправильное поведение марцифального, винтового junkie
это – следствие стимуляторного делириума, или стимуляторного психоза, известного
и кокаинистам, и другим амфетаминовым наркоманам, но не столь сильного,
быстротечного и беспредельного. Марцифалевый и винтовой делириум сопровождется
«заморочками», «непонятками», «базаром», «навязками», «тараканами», «изменой».
В 80-90-х годах увлечение амфетаминами стало распространяться в
Северо-западном регионе России: Ленинграде, Мурманске, Калининграде, странах
Прибалтики, Казахстане. В начале 80-х научились изготовлять из эфедрина другой
суррогат метамфетамина называемый – «винт». В конце 80-х-начале 90-х, время
серьезных репрессий наркотиков и наркоманов, в Казахстане даже научились
готовить эфедрин из растения эфедры, растущего в этом географическом регионе.
Винт еще более страшный и зловещий наркотик, чем марцифаль. Винт с
невероятными скоростью и успехом распространился по всему СССР, на него
«подсели» как марцифальщики, так и опиушники, и алкоголики. «Винтовые» стали
грозой наркотского сообщества» (см. на тему марцифального и «винтового» кайфа и
образа жизни талантливый роман Баяна Ширянова (настоящее имя – Кирилл Воробьев)
«Низший пилотаж». М.: 2001).
Первую историю я услышала не то от Сережи, не то от Володи, или от обоих,
таким образом подсев на джеф уже была готова увидеть нечто страшное. Вторая
история случилась с моей соученицей по 80-ой школе , бывшей женой другого
соученика о которой я же писала, о других персонажах речь еще впереди.
Третья история приключилась с мамой, любовником талантливой девушки, которую
я знала через львовскую литературную тусовку – Сережа Дмитровский и др.
Джефовые российские притоны начала-середины 80-х годов до боли напоминают
крэковые американские притоны 90-х. Позволю себе еще одну цитату из своей же
книги:
«В восьмидесятые годы появилась новая форма употребления кокаина, его начали
курить: размешивали с щелочью и поджигали, получая таким образом базис, т. е.
возвращаясь к основам – содержащимся в листьях коки. Этот сильный и опасный
наркотик получил название базис или крэк. Слово «крэк», от английского
«crack» – треск. Так как при курения отщелоченного, высушенного кокаина,
раздается характерный звук – треск.
В девяностых годах в США появились притоны – специальные дома для курения
крэка. «Дома крэка» – рассадник преступлений – типа наших отечественных винтовых
притонов, там зарегистрированы многочисленные случаи убийств, изнасилований,
детской проституции и т. д. Из описаний одним американским junkie «дома
крэка»:«В домах крэка я видел вещи, которые не видел более нигде. Хуже места
нельзя себе представить. Никому ни до кого нет дела, делай, что хочешь. Чего
только я не видел! Я видел девку, которую ебали пятьдесят раз, пока она не была
вся в крови и даже встать не могла, и это за маленький кусочек крэка. Я видел,
как один парень плеснул женщине в лицо кислотой, только за то, что она не хотела
больше спать с ним. Я видел, как одному торчку отстрелили из дробовика яйца за
то, что он пытался украсть немного крэка. Слышь, парень, это плохие места…»
(Курильщик крэка // Цит. по: Дж. Солмзес, В. Геурон, Г. Соколовский. Наркотики и
общество. М., 1998. С. 75.).
Вслед за штатовским нарративом я могу повторить тоже самое, что с крэковскими
домами в Америке было и на российской почве, с марцифалевыми восьмидесятых и
винтовыми девяностых годов, притонами: «Слышь, парень, это плохие места…». Не
ходите туда, ЛЮДИ. Слышите НЕ ХОДИТЕ!!!
Несмотря на все свои знания о марцифалевом безумии и марцифалевом насилии,
несмотря на то, что ко времени знакомства с Майк с трудом, постепенно, но я
окончательно соскочила с марцифали, а плотно не торчала уже лет 7, мне все-таки
хотелось вмазаться с ней джефом, именно с ней, чтобы дать Майк почувствовать и
напомнить себе, а может быть впервые, прочувствовать сладость марцифалевого
сексуального раствора в счастье быть вдвоем, впервые в жизни под этим кайфом с
единственным любимым мною человеком. В бытность свою «марцифальчицей» (пишу это
слово и содрогаюсь от ужаса, до дрожи в ногах и мурашках по коже), я всегда
отказывалась от сексуального раствора, а хотела я раствор интеллектуальный. Я же
под этим стимуляторным кайфом работала как сумасшедшая. Обычно, каждый человек
подсаживался на свое, кто на секс (большинство), кто «на метлу», кто на уборку,
кто на интеллектуальную деятельность, кто на эзотерические – парапсихологические
и биоэнергетические эксперименты, каждый по своим способностям и своим
потребностям, прямо как при коммунизме. А с Майк я хотела поделиться, радостью
узнавания Paradise, которого лишились люди еще в библейские времена, благодаря
нашей прародительнице Еве, вкусившей яблоко в райском саду. Яблоком этим, вне
всяких сомнений, был наркотик – эфедра ли, мак ли, каннабис ли, кактус пейотль,
кокаиновый куст, неважно, главное психостимулятр. Жизнь в раю была райской,
именно благодаря вечному КАЙФУ. Я в это свято верила и верю до сих пор. Рай для
меня – вечный наркотический кайф, каждый раз, как в первый раз – то, что каждый
джанки пытается повторить при очередном употреблении наркотиков – и то, что
никому еще никогда после грехопадения не удалось сделать на Земле. Возможно,
сделать это только на Небе, где вечный наркотический улет, но, сначала надо туда
попасть. А мы же глупые, вслед за иудейскими мыслителями, пытается устроить себе
рай на земле. Нет рая на земле!? Христиане, в отличие от иудеев, учат, что рай
лишь за пределами земного существования. Глупые мы глупые, используем, все
наркотики, секс, индустрию всевозможный развлечений, а рай в действительности
можно поймать здесь, рядом с нами рай ловят в суфических и растафарических и
других духовно-наркотических радениях разного рода и разных школ религиозные
мистики. Но эти мистики прибегали в своих шаманских полетах, суфистских радений,
спиритуальных видениях, в харизматических соитиях со Святым Духом, к грибочкам,
ягодкам, травкам-муравкам, цветочкам, кактусам и другим растениям. Но узнала я
об этом позже, лет эдак через пять после описанных событий. Сразу же, как
узнала, досконально изучив теоретический и практический материал, села писать
книгу о наркотиках. Написала. Публикую у Митьков.
А пока – всю предшествующую свою жизни – я готовилась к написанию
культурологической книги о наркотиках. Эзотерический опыт с наркотиками был
важной ступенью к моему осознанию божественности, и в то же само время,
дьявольщины растительных и химических средств воздействующих на сознание.
Мой практический опыт был восхождением, а вовсе не гибелью моего сознания и
моего духа. Я поняла, что Дух мой не бренен, а вечен, как и дух любого
индивидуума. Что, каждый может стать фараоном, Осирисом, Дионисом, Деметрой,
Персефоной, и, наконец, Христом – умереть, а затем воскреснуть, как умирает и
воскресает каждый год растительность. Этому Знанию помогли книги, этому знанию
помогли и наркотики. Благодаря наркотикам я уверовала во Христа нашего
Спасителя. Об этом я расскажу позже.
Я благодарна наркотикам за свой спиритуальный опыт, как может быть благодарен
каждый из нас, кто соприкоснулся в своей жизни с веществами, расширяющими
сознание. Многие из нас не были готовы к этому эзотерическому гнозису, но многие
из нас стали готовы к этому духовному познанию. Познав один раз, стали познавать
опять и опять. Пошли по пути вечного и бесконечного Гнозиса. Одним из таких
людей был Валера, по кличке Бешенный.
Валера Бешенный
Почему его прозвали «Бешенным» сначала было для меня загадкой. Но вскоре я
безо всяких вопросов открыла мистерию его легендарного имени.
Познакомились мы в году 83-84, на улице Желябова, где я с опасностью для
социальной жизни и карьеры торговала «из-под полы» гипсовыми знаками зодиака.
Валера же без всякого страха и риска, так как платил ментам, торговал ножами и
ножичками для чистки овощей. Называли эти ножи и ножички – вертушки, так как ими
надо было немного повертеть в картошки, после чего она распадалась на части, или
с нее снималась шкурка. Людей, которые торговали этими замечательными
приспособлениями, называли, в свою очередь, вертушечниками. Так вот Валера был
вертушечником. Был он милым и доброжелательным молодым человеком, помогал чем
мог нам, опасливым гипсовикам, – мне и Лене – изготовительнице и моей гипсовой
учительнице, договаривался со знакомыми ментами о нашей безопасности, разменивал
или одалживал нам деньги, кормил бутербродами, аккуратно завернутыми ему в
дорогу его мещанкой-тещей. Лена торговать не могла, так как не имела
ленинградской прописки. Была она родом из никому тогда не известного, а теперь
легендарного города Грозного, куда ее отца-военного занесла служба. Училась Лена
в театральном институте, на художественно-постановочном факультете, чуть ли не
одной группе с Юлей Беломлинской, на кафедре у бывшего жениха моего мамы – Димы
Афанасьева, на бывшем Акимовском факультете. Но была оттуда с треском изгнана за
непосещаемость грозным деканом худ. поста Соллогубом, который несмотря, а может
вопреки своей строгости воспитал дочь распиздяйку. Знаю я это, так как работала
Нина Соллогуб ассистентом у моей матушке на одной, или даже на двух фильмах, и
славилась не столько талантом и родством со своим принципиальным папочкой,
сколько абсолютной безответственностью и неточностью. Итак, Лена – дочь офицера
советской армии служившего в городе Грозном, была выгнана грозным Соллогубом из
Театрального института, лишившись тем самым прописки в Ленинграде. Из Ленинграда
обратно в Грозный она возвращаться не хотела, была она лесбиянкой, и в городе
Грозном в этом смысле ловить ей было нечего. Так и осталась она без связей,
денег, комнаты или квартиры, без чьей-либо поддержки, практически на улице со
своей психически больной подругой. С подругой она после долгих лет совместной,
скорее сестринской, чем любовнической жизни, в результате рассталась,
Познакомилась со всеми известной, более того, по-своему знаменитой – Любой-,
помогала одно время той в ее бизнесе – спекуляции и фарцовке. Но это было явно
не Ленино дело, и тогда она, благодаря одному корешу – масочнику, разбогатевшему
на гипсе, вовремя попав в струю, приобщилась к этому бизнесу. А через полгода
или год, когда ее однажды задержали без прописки или с поддельной пропиской и
чуть не посадили в «Кресты», испугавшись, перестала сама торговать, а занималась
лишь изготовлением модных в то время знаком зодиака, которые шли на улет, и
подыскивала дольщика или дольщицу. В те времена уже существовало разделение
труда, одни делают, другие – продают. Но Лена работала по старинке, как при
феодализме, капиталистический метод осваивать по разного рода причинам, не
хотела. Но пришлось, так как сама она уже продавать не могла, было слишком
рискованно залететь не за что не про что без прописки, под статью о тунеядке и
бомжовке.
Благодаря, все той же вездесущей Любе-, Лена вышла на меня, или, точнее я на
нее и мы стали дружно трудиться вместе, и еще заодно и потрахиваться вместе.
Работали мы с Леной у ДЛТ, неподалеку от нас торговал вертушками Валера
Бешенный. Там мы и познакомились. Валера был запойный, когда пил, то работать не
мог, пропивал все доходы, а зарабатывал он до 1000 рублей в день, чистыми, что
по тем временам было целым состоянием. Пропив все до нитки, он опять возвращался
на свое рабочее место на Желябова. Прошло приблизительно полгода, а скорее даже
год, о гипсе я давно уже забыть забыла, и вдруг встречаю Валеру Бешенного в
марцифальной тусовке. Встретила я его где-то на Суворовском на стрелке, недалеко
от хаты легендарного Сокола, беременную жену которого пытали и допытали до
смерти вязальными спицами. У Сокола мы первый раз вместе и вмазались. Это был
первый, но не последний раз, когда мы торчали с Валерой на марцифали, один раз
даже Валера сделал почти никому тогда неизвестный винт.
Почему же его прозвали «Бешенным»? Бешенным, даже эмоционально возбудимым он
не был, напротив, держал все в себе, а в ответ, на хамство или кидалово, просто
улыбался своей спокойной доброжелательной, немного грустноватой всепонимающей и
всепрощающей улыбкой всезнающего бодхисатвы. «Бешенным» он был потому, что пил
до посинения, и торчал до упаду, а главное, если его по-настоящему доводили – не
раз и не два играя на его всепрощенческой мудрости, то приходил он в состояние
бешенное, иначе назвать это никак было невозможно. Он не бесился, нет, не
кричал, и не размахивал руками, не делал пальцы веером, он, просто сжав зубы бил
в самою болезненную точку, а уязвимые точки на теле человеческом он знал, так
как изучал восточные единоборства.
Валера был человеком мудрым, из кайфа извлекал ГНОЗИС. Он ставил эксперименты
на людях, но не воровал приходы, как это делали другие недоумки, а продлевал
приходы другим, а заодно и себе. Давая другим счастье, он сам получал счастье.
Он научил меня не нервничать на приходе, а расслабляться и ловить волны райской
благодати.
Кроме того. Валера очень аккуратно, а не брутально или жалостливо-шантажно
как другие, предлагал девушкам сексуальное удовольствие в джефе, не секс, нет,
хуй у него, как и большинства мужчин, - за исключением А., маму которого
изнасиловали хачики со стоячим вечно дружком, и Леши М., у которого под
марцифалью пенис стоял на все, что шевелится, в том числе и на молодых людей с
розовыми аппетитными попками, - превращался в скукожившийся сморчок, прямо как
гриб-фаллос в мифологии кетов. Валера благородно доставлял кайф девушкам, многие
из которых кончали на приходе. В джефе хорош не секс, как таковой, а тем более
не генитальный половой акт, а тактильное рафинированное наслаждение. Вот именно
его Валера давал с избытком как юным неопытным, так и пожилым искушенным,
девушкам и женщинам. Валера был мастером ублажать людей, в особенности женского
пола, если не парапсихологией с биоэнергетикой, то тактильной – изысканной
близостью.
|